
Категории:
ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника
Главные режиссеры периферийных театров
Г.А. Вы присутствовали, как я уже говорил некоторым из вас, на первой сводной репетиции спектакля по рассказу Толстого «История лошади». Вы, люди профессиональные, понимаете, что такое впервые собрать спектакль. Ваше присутствие помогло мне заставить себя просмотреть материал почти без остановок. Конечно, материал сырой, но, надеюсь, уже решение читается. Еще предстоит сделать ряд уточнений, еще не решены вопросы темпо-ритма, продолжается корректура композиции, но время для исправления есть. И хочется проверить, сходятся ли ваши и мои ощущения в связи с увиденным вами... Итак, я прошу каждого высказать соображения по поводу первого прогона спектакля. На возникшие вопросы я попытаюсь ответить.
Режиссеры по очереди берут слово.
ПЕРВЫЙ. Не верится, что это первая сводка. Для меня — это готовый спектакль. Спектакль, который должен дать огромную пищу для размышлений. Прежде всего, поражает открытие новых форм, сопряжение которых дает неожиданные результаты. Комплекс художественно-выразительных средств, сам литературный материал, внешний и внутренний ход, сценически раскрывающий Толстого, — все это новость не только для Большого драматического театра, а, смею утверждать, и для театра вообще.
Когда говорят «эксперимент», то всегда подразумевается вопрос: удастся или нет? В данном случае, этого вопроса нет. Явно получается высокохудожественное произведение. Спектакль — урок! Урок не только в прямом жизненном постижении, а и как показательный материал, анализ которого приводит ко многим выводам, расширяющим представления о возможностях нашей профессии.
Но не могу не сказать, что второй акт показался мне менее драматургически интересным. Это, пожалуй, единственное сомнение: будет ли потрясать спектакль от начала и до конца?! Но, думаю, что дело здесь не в режиссуре, а в драматургическом материале. Все, что было до вашей остановки репетиции, меня потрясло.
ВТОРОЙ. Я попытался законспектировать для себя спектакль. Потом понял, что это бесполезно, да и не нужно, нельзя опускать глаза, визуальный ряд настолько интересен, настолько дополняет текстовой ряд, что делать конспект — кощунство. Самое удивительное открытие из увиденного сегодня: соединение Толстого и Брехта. Соединение неожиданное, непредсказуемое, но в основном органичное. Тем не менее, не могу скрыть: возникали вопросы. Сознательно ли делалось, что в самых кульминационных моментах артисты нигде не доходят до пика? Вот, например, Вязопуриха узнает Холстомера. Процесс, казалось бы, чрезвычайно эмоциональный. Мне кажется, он должен быть наиподробнейше разработан, замедлен темпово при ритмическом накале, а здесь для меня не процесс, а мгновение. Я не успеваю его пережить до конца, потому что уже начался другой кусок! И по спектаклю можно найти еще ряд таких примеров. Скажем, встреча старого Князя и Холстомера. Для меня эти моменты происходят на-
¶столько быстро, что производят ощущение смазанности, насилия, кастрации. Это тенденция или недоработки? Если тенденция, то не кажется ли она вам опасной?
Г.А. Для меня всегда опаснее, когда артист доигрывает то, что зритель уже давно понял. Это в десять раз хуже, чем когда зритель не успел что-либо пережить до конца. Это первый признак архаичного театра.
ВТОРОЙ. Каковы основные условия игры в спектакле? Чем диктуется толстовско-брехтов-ский ход?
Г.А. Приемом, который заложен у Толстого: диффузией человека и лошади.
ВТОРОЙ. Вам не кажется, что переход из человека в лошадь и наоборот недостаточно акцентирован?
Г.А. Мы добивались диффузии, хуже, если бы переход был механическим.
ВТОРОЙ. Не кажется ли вам, что надо попросить женщин снять лифчики? Это может еще более обнажить животное начало.
Г.А. Вам мало эротики?
ВТОРОЙ. Мало. Спектакль, наверняка, был бы выразительнее...
ТРЕТИЙ (присоединяясь ко всему позитивному, о чем говорили предыдущие режиссеры). Если основной критерий театрального зрелища — сила воздействия на зрителя, то я получил огромное удовольствие. (Сравнение с «Зеркалом» Андрея Тарковского.) Найдена великолепная форма раскрытого содержания. Сегодняшнее представление...
Г.А. Это еще не представление, а — должен напомнить — первая сводка.
ТРЕТИЙ. И все-таки то, что я увидел, лучший из всех виденных мной до сегодняшнего дня спектаклей. Мне трудно говорить, тем более анализировать, потому что я под прессом сильнейшего эмоционального воздействия. Если есть спектакли, поворачивающие сознание, меняющие жизнь, то это как раз «История лошади». Оказывается, у театра неограниченные возможности. Хочется переосмыслить все сделанное ранее. И хочется работать. Я понимаю, что впереди еще проблема темпо-ритма, но уверен: она решится положительно, потому что уже сейчас в лучших эпизодах видно, что совершилось открытие.
ЧЕТВЕРТЫЙ. Если вчера у нас состоялся, как вы сказали: «Тяжелый разговор театрального толка», — то сегодня на конкретном материале нам говорить, с одной стороны, легче... Легче, потому что мы увидели, — не сомневаюсь, что в ближайшее время это подтвердится, — блестящий спектакль, событие театральной жизни. Но, с другой стороны, говорить труднее. Вы, Георгий Александрович, варились в материале долгое время и, конечно, больше нас понимаете, что надо еще сделать в оставшиеся две-три недели. Поэтому нетактично, да и не нужно, поймите нас правильно, — давать вам какие-либо советы.
Если позволите, одно лишь пожелание. Мне показалось, что пантомима воспоминаний Хол-стомера очень растянута. Поэтому снимается набранное до предела эмоциональное напряжение. Сразу оговорюсь: может, она показалась мне неубедительной, потому что репетиция прерывалась, и из-за этого не сложилось должного впечатления.
ПЯТЫЙ. Спектакль задел, — я говорю от имени многих, потому что обменивались мнениями, — взволновал, и как зрителей, и как режиссеров. Он многоплановый, многотемный. Мне кажется, «История лошади» — спектакль в какой-то степени принципиальный для вашего театра. А по результату — безусловно этапный. Кроме того он является ответом на дискуссию о музыкальных театрах. С музыкальной точки зрения спектакль сыгран драматическими актерами на таком высоком уровне, которое зачастую недоступно музыкальным театрам. Зонги, различные по жанрам, решены в одном зрелищном ключе, произошло их органическое соединение с литературным материалом, и из маленького рассказа получился спектакль с космической философией Толстого.
ШЕСТОЙ. Я тоже буду говорить «спектакль», а не репетиция! Может быть, потому, что «все мы немножко лошади, каждый из нас по-своему лошадь», но спектакль взволновал чрезвычайно. Если и были в практике театра попытки замахнуться на такого рода форму, скажем, спектакли Юрия Любимова, то они, к сожалению, заканчивались лишь подчинением воле постановщика, непроживанием, я бы даже сказал: актерской бездуховностью и механическими перемещениями. Все знают завет Вахтангова: «И в цирке надо играть по системе!» Но реализо-
¶ 



|
ванных примеров нет! И кажется, формула «чем условнее форма, тем безусловнее содержание» вроде бы теоретически верна, но практически недостижима. Не видел работ Питера Брука, говорят, там при самой условной форме есть безусловность проживания, но лучше один раз увидеть... Не видел. И вот сегодня ваш спектакль. Впервые практически доказано: огромная философская мысль может быть в самой условной форме актерски прекрасно выражена!
Если говорить о моментах, которые смутили, то это пантомима Холстомера. И нет претензий к Лебедеву, он работает блестяще и как драматический артист, и как мим, но почему-то до этого момента напряжение возрастало, а тут и придумано хорошо, и декорации, когда взрезаются холсты, работают, но откидываешься, созерцаешь, и не покидает ощущение затянутости. Почему? Не знаю. Может, оттого что нет дополнительной информации?
СЕДЬМОЙ (В. ПАЗИ). Не хочу повторять, какого рода это для нас урок. Тут и еще один пример нахождения лица автора, и пример поиска выразительных средств, адекватных авторскому. Я перечитал «Холстомера», готовился к сегодняшней репетиции, пытаясь сочинить какой-то ход, прием, найти условия игры, и так и не мог себе представить, каким образом, хотя бы частично, может быть перенесена на сцену повесть Льва Николаевича Толстого. И, оказалось, что при всей парадоксальности найденного брехтовского хода, получился толстовский «Холстомер».
Г.А. А вы не задумывались над тем, что средство отстранения человека в лошади оформлено Толстым в «Холстомере» гораздо раньше, чем само отстранение открыл Брехт?.. Любопытно, не правда ли? И этот пример еще раз подтверждает мысль Станиславского о том, что литература опережает театральное искусство и, будучи его первоосновой, содержит в себе те законы, которые мы, порой гораздо позже, открываем в ней, но уже в приложении к нашей профессии.
ПАЗИ. Во всяком случае, Брехт не Брехт, боюсь утверждать, но уж Толстой точно! Понимая, что спектакль еще в работе, не могу не сказать об ощущении некоторого композиционного перекоса. Почему-то если первый акт наполнен зонгами, то второй почти их лишен. Но хочется подчеркнуть, что существование актеров в спектакле — не только ведущих, но и тех, кого принято называть массовкой, — едино и по способу, и по степени отдачи. В наших периферийных театрах этого, к сожалению, добиться невозможно. И не только потому, что малое количество репетиций не может дать желаемого результата. Нет, конечно, Лебедева. Кстати, после Бессеме-нова в «Мещанах» это еще одна, но совершенно иная безусловная удача! У нас такого Лебедева нет! Но почти в каждом театре есть ряд мастеров, которые могли бы работать в столице, но в силу разных причин задержались на периферии. И, кто знает, а вдруг кто-нибудь из них мог бы тоже неожиданно раскрыться?! Можно найти и Князя, и Вязопуриху, и Милого. Но, утверждаю: нет актеров, которые в Хоре могли бы конкурировать с ведущими исполнителями. Пожалуй, впервые вижу спектакль, где каждый артист — участник Хора — есть личность! Органически проживается труднейший рисунок! Тем более обидно, что на этом фоне не совсем выгодно выглядит выход старого Князя. Он показался сыгранным в каком-то ином способе. Басилашвили берет характерность, но сугубо бытового плана, а быт не заложен во всем предыдущем построении его роли... Скажите, Георгий Александрович, а как вы определили жанр спектакля?
Г.А. Да никак не определил. (Полное недоумение всех присутствующих.)
А что вы так удивились? Вам, как никому, известно, что название жанра в литературном плане нам мало что дает практически. Ну, скажем, «лирическая комедия». Что это? Существует масса лирических комедий, но все они отличаются друг от друга, в каждой из них — если иметь
¶522
¶523
¶в виду хороший материал — есть своя изюминка, своя особенность, неповторимость. Литературное определение жанра — материк, а нам надо найти конкретную точку местонахождения.
По существу, жанр складывается из условий игры, другими словами говоря, — из способа общения со зрителем и способа отбора предлагаемых обстоятельств. Этот способ заложен в пьесе, задается ее автором, важно угадать его, сделать законом в своей работе, законом, которому надо неукоснительно следовать. Назвать его каким-либо одним словом я не берусь, так что можно считать: формально жанр не определен.
Правда, мы не забываем, что «Холстомер» — это рассказ, поэтому четвертой стены нет, поэтому свободно смещаются Время и Место действия. То сегодня, то много лет назад, то конюшня, то кабинет Князя, то ипподром и т. д. Не берусь назвать точный жанр. Но в смещении эпизодов, подчиненных лихорадочным воспоминаниям Холстомера, в их соединении через осмысление прожитой жизни лежит жанр, то есть способ, прием спектакля, а вместе с ним все компоненты, в том числе и ритм, который сегодня развалился... Что касается сцены старого Князя, то, действительно, в ней мы немножко потеряли. Наверное, не надо так подробно физически играть старость. Попробуем, сохраняя внутреннюю жизнь, идти ходом маразма мысли, почти отбросив физику. Откровенно говоря, эта сцена пока еще очень сырая. Ею надо заняться отдельно.
ПАЗИ. Как решалась пластическая сторона спектакля? Вы приглашали балетмейстера?
Г.А. Да, но решили от него отказаться. Были пробы, но внесение профессионализма в пластические номера давало сдвиг в нежелательную для нас сторону.
ВТОРОЙ. Конского балета?
Г.А. Мы пришли к выводу, принципиальному для нас: обращение к балету должно быть через пародию. Поэтому, если вы угадали в танцах пародийность, то знайте: она возникла не от бедности, а являлась искомой.
ВТОРОЙ. Так же, как и опера?
Г.А. Да, особенно в великосветских сценах.
ПЯТЫЙ. Насчет музыки. У вас живой оркестр, но есть и запись. Не кажется ли вам, что в записи есть инструменты, которых нет в оркестре? И тогда специалист в зале не будет ощущать чистоту музыкального приема. Актеры поют вживую и есть записанные голоса. Иногда нет точного баланса. Иногда угадываю, что это запись. Не кажется вам?
Г.А. Еще впереди много работы над музыкой. Займемся балансом, вы правы. Сегодня в пантомиме звучал только один женский голос. Этого мало. Он не заполняет пространство. Может, поэтому и пантомима сейчас кажется пустоватой? Посмотрим, что будет через несколько дней. Хочется ликвидировать во всей фонограмме симфонические инструменты, оставить в записи инструменты живого оркестра.
ПАЗИ. Как долго вы работали над спектаклем?
Г.А. Год, почти год, с середины января 75-го.
ПЕРВЫЙ. Когда подключилась вся массовка?
Г.А. С самого начала.
ПАЗИ. Когда вы выпускаете спектакль?
Г.А. У нас снят выходной день. Утром и вечером в понедельник будет два прогона, я думаю, мы успеем отладить все наши погрешности. Так что мне нужна только неделя. 27-го ноября мы должны сыграть премьеру.
ПЯТЫЙ. Сильно изменилась пьеса с тех пор, как она попала к вам?
Г.А. До сих пор идет беспрерывная работа над текстом. То, что Питер Брук называл импровизацией содержания, выполняется нами в полной мере... Ну что ж, если больше нет вопросов, то закончим нашу беседу. Кое-что полезное я из вас выудил.
Ноября 1975 года
Г.А. (Басилашвили). Олег, у меня к вам революционное предложение. БАСИЛАШВИЛИ. Да, я слушаю.
¶  Г.А. предлагает поискать иную физику старого Князя. Отказаться от дряхлости, наоборот, пусть он будет вытянутый, прямой, как в молодости, но вдруг, к всеобщему удивлению, Князя
Г.А. предлагает поискать иную физику старого Князя. Отказаться от дряхлости, наоборот, пусть он будет вытянутый, прямой, как в молодости, но вдруг, к всеобщему удивлению, Князя
заносит.
Г.А. Причем заносит не только потому, что Князь пьяный, не только из-за сжатия сосудов, но и от внутреннего маразма. То, что в нем намечалось в молодости: презрение ко всему окружающему, кроме себя самого, дало свои плоды. Он пришел к полному одиночеству и, как следствие, возник разлад психики. Ведь вся сцена строится на том, что он принимает Мари за Ма-тье, Фрица за Феофана, а реальное существо, бывшее какое-то время при нем, Холстомера, не узнает. Стеклянный глаз! Остановившийся стеклянный глаз — вот зерно роли!.. (Данилову.) В показе лошадей у вас опять абстрактный, а не профессиональный текст. А мы же договорились: «Тпрррру, ну, пошла, но»... Внимание, товарищи! Первый акт с выхода Серпуховского!
БАСИЛАШВИЛИ. О-о! Тогда я пойду переоденусь.
Г.А. А почему вы не готовы, Олег Валерьянович? Переодеваться надо загодя.
БАСИЛАШВИЛИ. Я думал: пойдем с начала акта, и у меня будет время.
Г.А. Надо переодеваться к началу репетиции, независимо оттого, о чем вы думали... (Лебедеву.) Мне кажется при переезде в Москву после слов «Ай да Пестрый! Ай да расписной!» надо снять песню «Ай-я-я-яй-яй!» Здесь она лишняя.
ЛЕБЕДЕВ. Давайте попробуем, пока Олег Валерьянович переодевается. (Во время пробы.)
А это что, весь свет?
КУТИКОВ. Весь.
ЛЕБЕДЕВ. Но ведь меня же не видно?!
КУТИКОВ. Георгий Александрович, если Евгений Алексеевич сделает шаг назад, он попадет в область хорошего света.
ЛЕБЕДЕВ. А вперед нельзя?
КУТИКОВ. Вперед два шага.
ЛЕБЕДЕВ. А если я двигаюсь по прямой, то вперед, то назад, значит, я уже не виден? Вам-то хорошо, вам легко, вы дали свет, а мы пристраиваемся.
КУТИКОВ. Мне легче всего было бы дать весь свет, включая зрительный зал. И все проблемы были бы решены.
Г.А. А почему нельзя дать боковой свет?
КУТИКОВ. Боковой?
Г.А. Да, вот этот, боковой, сейчас он отсутствует.
КУТИКОВ. Боковой свет захватывает задник.
Г.А. Бог с ним с задником, актеров не видно.
КУТИКОВ (в регуляторную). Оленька, дай боковой свет с балконов.
Г.А. Во-от, а теперь чуть прижать.
КУТИКОВ (в регуляторную). Оленька, прижми.
Г.А. И никаких задников не задевает.
КУТИКОВ. Фиксируем?
Г.А. Фиксируем, но почему я нашел выход, а вы — нет? Зачем заставлять нервничать артиста понапрасну?
БАСИЛАШВИЛИ. Я готов, Георгий Александрович!
ЛЕБЕДЕВ. Я запомнил, что здесь песню вымарываем.
Г.А. С появления Князя.
Рассказ Холстомера о жизни у Князя. Звон брегета.
ЛЕБЕДЕВ. Может, и здесь отменить песню? Г.А. Здесь жалко отменять.
ЛЕБЕДЕВ. Я спою чуть позже. «Была зима, меня запрягли в сани, но какие!!! Ай-я-я-яй-яй! А-а-а-а-а й-я-я-яй-яй!»
Г.А. Хорошо, Женечка, очень хорошо!
Финальная песня первого акта «На Кузнецком».
РОЗЕНЦВЕЙГ. Без вступления не получается. Грязь. Не вступить всем одновременно.
¶ 
 Г.А. Хорошо, давайте так. Реплика Евгения Алексеевича: «Мы едем!» Оркестр играет вступление. Все выходят из мизансцены езды. Становятся артистами БДТ. Идет зонг.
Г.А. Хорошо, давайте так. Реплика Евгения Алексеевича: «Мы едем!» Оркестр играет вступление. Все выходят из мизансцены езды. Становятся артистами БДТ. Идет зонг.
После повторения песни прогон первого акта, корректура музыкальных номеров.
Ноября 1975 года
Второй акт. Монолог Холстомера о передаче из рук в руки.
РОЗОВСКИЙ. Конечно, не «больной», а «большой» кнут.
Г.А. У меня академическое издание. Там написано «большой». Но, может, это опечатка? С точки зрения житейской логики, вы правы, а с точки зрения Холстомера, есть кнут «нормальный», а есть «больной». Приготовились к началу первого акта.
Песня Конюха.
РОЗОВСКИЙ. Когда Конюху аккомпанирует оркестр, получается похоже на оперу. Г.А. Пришлось, иначе Штиль детонирует.
Рассказ Хора о Холстомере.
{Караваеву.) Чуть выше по тональности надо начинать. До вашей реплики было задано общее настроение, общее описание природы, теперь пошел конкретный рассказ о Холстомере.
(Солякову.) Жаль, что наступили на реплику Караваеву. Пусть будет пауза, в которой Хол-стомер помашет хвостом.
(Заблудовскому.) Вот сейчас хорошо из задумчивости возникает текст. А вчера на вечернем прогоне очень много двигались перед текстом. Вы заметили это, Изиль?
ЗАБЛУДОВСКИЙ. Честно говоря, нет.
Г.А. Обратите на это внимание.
Бобринский приказывает зарезать Холстомера.
(Штилю.) Почему вы называете Бобринского «Ваше сиятельство»? ШТИЛЬ. Я его всегда так называл. Г.А. Ваше сиятельство — это граф.
РОЗОВСКИЙ. А Бобринский — граф, Георгий Александрович. Г.А. Но разве у нас есть в тексте, что Бобринский — граф? РОЗОВСКИЙ. Если Конюх называет его граф, то это подразумевается. Г.А. Ну, ладно, оставим. Дальше, пожалуйста.
(Оркестру.) Конюх точит нож — реплика на музыку. «О, смертный, жизнь проходит быстро», — попробуем спеть вживую.
(Хору.) Чтобы точно вступить, выходите с первыми тремя ударами.
После зонга.
В сцене издевательства над Холстомером потеряна жестокость. Получается красивый театральный ход, но нет подлинности происходящего. Первая реплика «чужой» должна быть командой на садистское избиение. Это не игра, не красивый этюд, а жесточайшая сцена.
(Изотову.) Фонограмму «мы табун, табун» нельзя давать сразу в полную силу. Я борюсь с тем, чтобы фонограмма врывалась, хотелось бы добиться незаметного входа записанной музыки. Понимаете, Юра? Общий принцип по всему спектаклю: фонограмма должна входить незаметно.
КОВЕЛЬ. На «О, смертный» — руки на поясе, по-моему, плохая позиция. Вот на «мы табун, все в нас едино» может быть эта фашистская поза. А здесь мы — актеры, в подтексте должно быть: задумайся вместе с нами.
Г.А. Правильно, Валя.
¶ 
 КОБЕЛЬ. И еще, Георгий Александрович. Первая песня Хора актерская, без сбруй. Но вторая — «Табун» — обязательно должна быть со сбруями. Что сейчас? Мы не успеваем надеть сбруи, а уже идет вторая песня. Что делать?
КОБЕЛЬ. И еще, Георгий Александрович. Первая песня Хора актерская, без сбруй. Но вторая — «Табун» — обязательно должна быть со сбруями. Что сейчас? Мы не успеваем надеть сбруи, а уже идет вторая песня. Что делать?
Г.А. (Изотову.) Нельзя ли после финала первой песни на реплику «опомнись», дать ржанье, а за это время актеры переоденутся?
Проба не получается. Во время лошадиного ржанья кто-то раньше, кто-то позже надевает
сбруи.
ЛЕБЕДЕВ. А может, не надо ржанья? Кончилась одна песня, пошло вступление ко второй. Дайте вступление. Раз! Я в позе лошадки! Два! Взял сбрую. Три! Четыре! Надел, взял хвост и пою.
Г.А. Давайте попробуем все сделать то, что получилось у Евгения Алексеевича.
После пробы.
(Изотову). Теперь дайте запись песни, но не в зал, а актерам, чтобы только им было слышно, а нам нет.
(Ковель.) «Да никак это Холстомер», — кричать не нужно. Шепот сильнее.
Теперь давайте эпизод оскопления.
РОЗЕНЦВЕЙГ. Нельзя ли Штилю передавать нож Данилову пораньше, на музыкальной кульминации?
Г.А. (Данилову и Штилю.) Миша и Жора, Семен Ефимович вам сейчас сделает правильное предложение насчет передачи ножа.
Вместо текста, который в записи читал Т.А.:
Мирозданье, чье это слово, Если нет у Творца твоего Ничего беззащитней живого, Беспощадней живых никого?!
— идет просто топот копыт.
ШВАРЦ. Нет, просто топот копыт — плохо. Надо вернуть текст.
Г.А. Юра Изотов! С участниками хора запишите несколько вариантов «Мирозданье, чье это слово...» Попробуем дать топот, а потом Хор, читающий стихи. Давайте проверим финальный зонг акта — «Кузнецкий мост». РОЗЕНЦВЕЙГ. Без дирижера трудно. Г.А. И все-таки давайте попробуем. РОЗЕНЦВЕЙГ. Не получится. Г.А. Что вы предлагаете, Семен Ефимович? Выйти и дирижировать на спектакле?
После двух прогонов песни.
Ну вот, в кровь входит и начинает получаться. Надо перед каждым прогоном распеваться и петь «Кузнецкий мост». Витя Соколов! Напомните мне завтра, чтобы перед началом прогона спели «Кузнецкий».
Перейдем ко второму акту. Сцена старого Серпуховского.
(Басилашвили.) Когда обознались, приняли Мари за Матье, стукнете себя по лбу: «Это же Мари!» Будто не вы, а все вокруг виноваты. Будто они вам внушали, что это Матье. Понимаете, Олег, в подтексте: что вы меня убеждаете, что это Матье? Что за чушь? Буркнул "простите" и пошел в кресло.
Мучительнее, мучительнее вглядывайтесь в Холстомера, а не равнодушно. Мы ждем: вот-вот вспомнит! «На пегого похож!»
(Волкову.) Вы говорите: «Я верю, верю», — а ведь ни одному слову не верит. Нет сейчас иронии, Миша, когда вы говорите о кредите, который может быть предоставлен Серпуховскому в связи с его бывшим состоянием.
(Басилашвили.) Олег, посмотрите на Бобринского с иронией.
(Волкову.) И о возможном размахе на десять лет жизни с иронией скажите.
¶ 
|
(Басилашвили.) «Двадцать лет уже прошло, и размах уже кончился!» Словом «кончился» выстрелите!
БАСИЛАШВИЛИ. Простите, Георгий Александрович, давайте разберемся в моей логике. Почему я злюсь на Бобринского? Да, он мне не верит, я слышу недоверчивую интонацию, но зачем мне ему что-либо доказывать? Он для меня человек из другой среды, другой планеты. Ему что ни говори, все равно ничего не поймет!
Г.А. Но иначе, Олег, в сцене нет конфликта. Вчера у вас получалось, но Миша Волков спал, теперь пошло у Миши — вы спите.
БАСИЛАШВИЛИ. Я очень моторно сейчас все делаю! На холостом ходу! Это мне противно, и я все время ищу!
Г.А. Сейчас вы не ищете! Вы ничего не делаете! БАСИЛАШВИЛИ. Я не хочу пережимать! Г.А. Сейчас лучше пережать, чем ничего не делать. Надо заставить себя сойти с ложного пути!
БАСИЛАШВИЛИ. Но я буду жать! Что дает жим? Г.А. Нет жима — нет пробы! БАСИЛАШВИЛИ. Хорошо, я попробую. Давайте еще раз с выхода.
Георгий Александрович, вот правильно я думаю? Сцена строится на том, что я что-то говорю Бобринскому, он подтверждает, тогда я ему: «Нет, ты ничего не понимаешь!» И леплю ему прямо противоположное тому, что говорил минуту назад! Но он опять подтверждает! «Мальчишка! — кричу ему я. — Что ты понимаешь в жизни? Ничего! Ты живешь разумом, а я жил полной жизнью!» Но ему этого не понять. Можно, я так попробую? Г.А. Конечно!
Проба.
(Волкову.) «Ты нынче пьешь, Князь?» — начните новый кусок. Пристройтесь к Серпуховскому, отделите эту реплику от всего предыдущего.
(Хору-табуну.) Когда Князь остался один, заснул, взволновались. Должно быть полное включение лошадей!
После просмотра.
(Басилашвили.) Этот путь вернее, Олег! И читается то, о чем вы перед пробой рассказали.
Ноября 1975 года
Установка света на финал спектакля. Хор распределен вдоль задника, верхняя часть которого освещена мерцающей проекцией. В центре сцены — финальная пантомима Лебедева.
Г.А. (Кутикову). В конце пантомимы, на этюде с бабочкой, проекция убирается, и остается свет на Евгении Алексеевиче...
СОКОЛОВ. Георгий Александрович, вы хотели проверить финал первого акта. «Кузнецкий мост».
Г.А. Хотел, спасибо, что напомнили, но время ушло. В процессе прогона, если будет необходимость, пройдем несколько раз.
КОВЕЛЬ. Георгий Александрович, Евгений Алексеевич предложил мне вначале выходить в седом парике, а потом снять его. Как вы считаете, можно попробовать?
Г.А. Попробуем.
¶  КОВ ЕЛЬ. Тогда можно я задержусь на минуту?
КОВ ЕЛЬ. Тогда можно я задержусь на минуту?
Г.А. Пожалуйста, Валя, минуту я готов подождать.
(Оркестру.) Вы сейчас сопровождаете все пение Конюха—Штиля. Не надо этого делать. Дать тональность, помочь — да, но аккомпанировать не надо.
РОЗЕНЦВЕЙГ. Если Жора будет распеваться, он споет правильно.
Г.А. Как правило, первую строчку он детонирует, вторую — меньше, а третью уже поет правильно. Я не понимаю, почему Жора не распевается?
ШТИЛЬ. Я был готов распеться, но Семен Ефимович был занят.
РОЗЕНЦВЕЙГ. К следующей репетиции займусь вами.
Г.А. Займитесь сейчас, пока Вали нет. Даю вам три минуты. Я уверен, что при распевке Жора споет правильно!
Распевка и прогон спектакля без остановок.
(Соколову.) Не получилось открытие натюрмортов. Монтировщики на подъемниках торопятся. Надо, чтобы шторки поднимались одновременно и в ритме музыки.
КОЧЕРГИН. Это занавес спектакля, Витя! Надо, чтобы две бригады сговорились. Сейчас одна делает хорошо, другая — плохо.
РОЗОВСКИЙ. Георгий Александрович, очень вас прошу, давайте добавим в финале в текст Олега Валерьяновича, как хоронили Князя: новый гроб, новая одежда и так далее.
Г.А. Длинно, Марк, это финал!
РОЗОВСКИЙ. Олег Валерьянович готов показать!
БАСИЛАШВИЛИ. Я готов! Посмотрите, послушайте!
Г.А. Ну, давайте.
Басилашвили блестяще читает монолог.
РОЗОВСКИЙ. Ну, хорошо же, Георгий Александрович! Г.А. Хорошо, оставим!
Ноября 1975 года
Г.А. Валя Караваев, фраза про старость «а бывает: жалкая и величественная вместе» вымарывается, остается текст Аэлиты Шкомовой «бывает старость жалкая», тогда текст будет относиться только к Серпуховскому, а то рассуждения о старости не читаются. (Суфлеру.) Тамара Ивановна, отметьте у себя в экземпляре.
ГОРСКАЯ. Уже отметила. Только Евсею Марковичу и Семену Ефимовичу надо сказать, что у них другая реплика на смену света и музыку.
Г.А. повторяет новую реплику Кутикову и Розенцвейгу, затем, позвав Басилашвили,
предлагает ему выйти на заключительный монолог в гриме и после финального текста
Лебедева снять бакенбарды, усы, на наших глазах превратившись в актера, сыгравшего роль
Князя. Раньше Басилашвили снимал грим за кулисами.
Г.А. Давайте проверим финал акта.
РОЗЕНЦВЕЙГ. Первого?
Г.А. Да, «Кузнецкий мост». Вчера песня грандиозно провалилась.
РОЗЕНЦВЕЙГ. Пожалуйста, я готов поискать варианты, но вчера Марк Розовский хотел предложить свой, а сегодня его почему-то нет.
Г.А. Как — нет? Я его только что видел.
РОЗОВСКИЙ (из глубины зала). Я здесь. Здравствуйте, Семен Ефимович.
РОЗЕНЦВЕЙГ. Доброе утро, Марк, что же вы там сидите? Давайте репетировать «Кузнецкий». Оркестр ждет ваших предложений.
РОЗОВСКИЙ (Ряшенцеву). Первый раз за всю мою историю пребывания в БДТ Розенцвейг допускает меня до оркестра.
¶РОЗЕНЦВЕЙГ (оркестру). Посмотрим, что он сможет нам предложить. Все, что было в наших силах, мы уже сделали, мы уже ничего из этой песни сделать не можем, а он может?! Ну, посмотрим.
Розовский подошел к музыкантам. РОЗОВСКИЙ (оркестру). Сыграйте, я попробую спеть, а заодно покажу, что я хочу.
Розовский спел.
РОЗЕНЦВЕЙГ. Хорошо, Марк, эмоционально, сильно, но по существу ничего не изменилось. Мы так и играли. Вопрос: что же делать актерам, когда в музыке большие паузы, так и остался открытым. Например, после «се ля ви»?
ГОРСКАЯ. После «се ля ви» можно засмеяться: «Ха-ха-ха!»
МИРОНЕНКО. А если «се ля ви» я не проговорю, а протяну под музыку — спою?!
РОЗОВСКИЙ. Нет, это будет не в зонговом характере.
РОЗЕНЦВЕЙГ. Но что же актерам делать? Просто так стоять?
ЛЕБЕДЕВ. Все дело в том, как стоять! Можно стоять напряженно!
РОЗЕНЦВЕЙГ. Ничего не изменится!
Г.А. Много дискуссий, Сенечка, давайте пробовать!
РОЗЕНЦВЕЙГ. Что пробовать? То, что предлагает Марк, у нас и было. Может, срезать второй куплет?
Г.А. Тогда разгона не будет.
ЛЕБЕДЕВ. А может, нам разрешить двигаться? А то мы как встали, так и стоим, поэтому и ничего не получается.
Г.А. Пусть первые трое: Мироненко, Лебедев и Басилашвили играют, а все остальные стоят. В этом тоже есть прием.
Проба.
РОЗОВСКИЙ. По-моему, начинает получаться. Вот это безумие скачки и необходимо. Только у меня еще одно предложение. Второй куплет начинать без остановки, в разгоне после первого!
РЯШЕНЦЕВ (Товстоногову). Музыканты почему-то боятся замедленного начала песни, а оно-то как раз дает право не так загонять быструю часть.
Розенцвейг возражает Ряшенцеву. Г.А. просит Розенцвейга не превращать репетицию в
дискуссию, а зафиксировать сделанное.
Еще раз поется «Кузнецкий». После «се ля ви» Басилашвили засмеялся: «Ха-ха-ха!»
Г.А. Хорошо, Олег! Молодец!
(Розовскому.) И, главное, оправдано Князь засмеялся! Перед этим Кучер по-французски закричал!
(Всем.) Кто засвистел? Я спрашиваю, кто засвистел?
Тишина. Хорошо свистели! Зафиксируйте!
После окончания песни.
РОЗЕНЦВЕЙГ. Ну, что про это можно сказать?
Г.А. То, что стало лучше! Намного! А в том, что играет тройка, есть смысл! ЛЕБЕДЕВ. Давайте точнее сделаем начало. Я говорю: «Я еду!» И должен быть люфт, чтобы я зафиксировал переход из рук в копыта.
Оркестр пробует.
(Ударнику.) Нет, вы не понимаете...
Г.А. Не нервничай, Женя, сделаем начало, сделаем. Еще раз объясни оркестру, что ты хочешь.
¶ 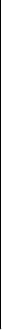
 ЛЕБЕДЕВ. «Я еду-у!». Взмах руки и пошел! Вот здесь подхватывайте меня! Еще раз! «Я еду-у!». Взмах руки... вот, вот, получается!
ЛЕБЕДЕВ. «Я еду-у!». Взмах руки и пошел! Вот здесь подхватывайте меня! Еще раз! «Я еду-у!». Взмах руки... вот, вот, получается!
И начало песни получается. Сбив ритма происходит при переходе ко второму куплету.
РОЗЕНЦВЕЙГ. Такие вещи без дирижера не получаются, хоть сто двадцать пять раз делай!
БАСИЛАШВИЛИ. Нас сбивает, когда в музыке не ощущаешь ритм. Пойми, Сенечка, мы же не профессионалы, и когда музыканты начинают импровизировать тему (показывает, как музыканты импровизируют) — «перетира-перетира», — мы ничего не понимаем. Нам нужна чистая мелодия и ритм.
ВОЛКОВ. Знаете, почему не получается?
Г.А. Почему?
ВОЛКОВ. Музыканты и актеры разобщены.
Г.А. Что вы предлагаете?
ВОЛКОВ. Чтобы музыканты перешли к актерам.
Г.А. Попробуем.
РОЗЕНЦВЕЙГ. Музыкантам перейти к артистам? А не громоздко ли это будет? Да и долго, по-моему.
Г.А. Для начала спокойно распределимся. Скрипка, гитара, ударник, нет, контрабас не надо. Встаньте за Евгением Алексеевичем, Басилашвили и Мироненко. Так, теперь вернитесь на свои места, а на реплику: «Мы едем», — переход.
(Розовскому.). С цыганами поехали. В этом что-то есть. И хороший облик, и смысл!
ЛЕБЕДЕВ. Нет, на песню уже не выйти! Мы завелись, мы на пределе, а оркестр — ровным шагом. Неправильный переход, по-моему.
Г.А. Так не надо шагом! Бегом! Опаздывая будто!
(Кутикову.) Севочка, погасите свет в зале!
Еще раз переход! А хорошо бы, чтобы музыканты тоже пели!
РОЗЕНЦВЕЙГ. Нет, они непоющие.
Г.А. Что вы мне говорите? Юра Смирнов, гитарист, прекрасно поющий человек! Перебежали! Нет, поздно!
ЛЕБЕДЕВ. А раньше им нельзя перебежать?
Г.А. Давайте с монолога Холстомера повыше. Поищем место. В конце поздно!
ЛЕБЕДЕВ. «Все шире и шире!..»
Г.А. Пошли!
Поют.
Стоп! Опять сбились с ритма.
РОЗЕНЦВЕЙГ. Контрабаса нет, он остался на месте, актеры ритма не слышат. ЛЕБЕДЕВ. Продирижируйте, Сеня! Пять раз продирижируете, все получится. РОЗЕНЦВЕЙГ. Зачем пять раз? Я если продирижирую, сразу все получится. ЛЕБЕДЕВ. Да? Ну, и давай!
Спели.
РОЗЕНЦВЕЙГ. Легче?
БАСИЛАШВИЛИ. Легче! А если было бы меньше импровизации в музыке, было бы еще легче. Нам нужен четкий ритм: «Там-там-там-там!» А вы все время пытаетесь показать: вот, мол, какие мы богатые, дескать, вы только послушайте, сколько в музыке нот!
РОЗЕНЦВЕЙГ. Не в этом дело! Ты просто ритм не чувствуешь!
БАСИЛАШВИЛИ. Я и говорю, что не чувствую ритм! Повторяю, мне нужен не просто ритм, а четкий: «Там-там-там-там!» Вот дайте «Там-там-там-там!» — и мы споем!
РОЗЕНЦВЕЙГ. Ну, что делать, если нет чувства ритма? И дирижера нет.
ЛЕБЕДЕВ. Олег прав, я тоже не слышу ритма. Давайте еще раз!
Повторение песни.
¶ 

|
Г.А. (Розовскому.) Разгул, оргия хорошо может получиться.
ЛЕБЕДЕВ. По-моему, получилось.
Г.А. Получилось.
КОНОВАЛОВА. А знаете, почему получилось?
Г.А. Почему?
КОНОВАЛОВА (хохочет). Ба-си-лаш-ви-ли молчал, ха-ха-ха.
БАСИЛАШВИЛИ. А что вы смеетесь? Это не шутка. Ритма не слышу — не пою!
РОЗОВСКИЙ. Мне кажется, стало получаться с точки зрения разгула, с точки зрения эмоций, но не получается с точки зрения текста.
Г.А. Тут такой разгон, что текст уже не важен.
РОЗОВСКИЙ. Ударения неверные!
Г.А. Поправьте!
После замечаний Розовского.
Давайте еще раз, чтобы все улеглось.
РОЗЕНЦВЕЙГ. Будем уповать на всевышнего. Больше песней заниматься бессмысленно.
ЛЕБЕДЕВ. Мы готовы. Давайте.
Повторение песни.
Г.А. Вот сейчас получилось, товарищи.
РОЗЕНЦВЕЙГ. Как теперь закончим акт? Барабанщик оторван от тарелки. Г.А. Может, сделать запись гонга? РОЗЕНЦВЕЙГ. Живая музыка лучше. Г.А. Давайте живую.
СКРИПАЧ (контрабасисту). Саша, ты же стоишь около тарелки. Ты мог бы сделать отбивку?
КОНТРАБАСИСТ. Могу.
РОЗЕНЦВЕЙГ. А если оркестр даст короткий аккорд?
Г.А. Покажите.
Розенцвейг дирижирует. Звучит оркестровый аккорд.
Хорошо. Зафиксируем.
Розенцвейг приготовил сокращенный вариант музыки на пантомиму. Лебедев показывает новый вариант воспоминаний Холстомера перед смертью.
Г.А. А если в финале попасть в детство? Сейчас бабочка прилетела к старому Холстомеру, а сыграй молодого жеребеночка, как когда-то, много лет назад.
Сейчас ты заканчиваешь медленным падением, а хотелось бы и сюда вставить какие-то кусочки из прошлого: помнишь, как тебе копыта чистили?
Мне нравится, что в пантоми<
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09
lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...