
Категории:
ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника
И. Г. Германова ВЕЩЬ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ ФИЛЬМА
Человек и окружающий его мир — вот наиболее общая формула того, что извечно находило отражение в искусстве. Мир, в котором живет человек, непосредственная среда его деятельности и его обитания наполнены множеством вещей — предметов его труда, его быта, его культуры. Они воплощают и означают собой самые разнообразные отношения человека с миром, с другими людьми. В передаче этих отношений киноискусство обладает особыми возможностями.
Вещи постоянно участвуют в построении художественной реальности фильма. Они наполняют ее множеством смыслов, помогают создать ощущение убедительности, конкретности и неповторимости запечатлеваемых мгновений жизни. О чем бы ни говорил автор фильма — знакомит ли он зрителей с мельчайшими подробностями быта или восходит к философским обобщениям бытия, стремится ли выразить чувство или зафиксировать наблюдение, тяготеет ли к предельному жизнеподобию или идет на открытую условность,— едва ли не каждое мгновение экранного времени должно быть по-своему «овеществлено».
Даже неопределенность, недосказанность и зыбкость сна, мечты или фантазии выражаются на экране при «активном участии» вещей. Таков знаменитый эпизод фильма «Летят журавли»: в сознании умирающего Бориса возникает видение несбывшейся свадьбы с Вероникой. Каждая деталь в этом видении удивительно отчетлива: и белая фата невесты, и черный костюм жениха, и бокал с вином в руке отца, и цветы, цветы, цветы...
Не просто достоверно, но с суровым аскетизмом бытовых деталей и подчеркнутой точностью фактур воплощена сцена встречи героя с погибшим на фронте отцом в картине «Мне 20 лет». В этой сцене (мотивированной сновидением героя) отец и сын сидят напротив друг друга. Их разделяет грубо сколоченный дощатый стол землянки. Алюминиевые солдатские кружки. Почти осязаемое
правдоподобие всей обстановки разбивается лишь бликами, словно подчеркивающими тревожность и взволнованность экранного действия. Но даже блики эти имеют «бытовое» объяснение, вещественный источник — их дает колеблющееся, неровное пламя свечи...
Опыт киноискусства много раз убеждал и убеждает в том, что «мертвая натура», «неодушевленная материя» вещественной среды может становиться на экране столь же выразительной, эстетически значимой, как и непосредственное изображение человека в актерском действии. Об этом писали Кулешов, Эйзенштейн, Балаш, Кракауэр. Для талантливых кинематографистов мир вещей предоставляет не только возможность создать достоверную историческую обстановку, не только возможность включить героев в сообразное им пространство, но также способ выразить эмоциональный климат, духовную атмосферу. Не случайно, например, теоретики дизайна говорят, что именно кино в наш век помогло открыть, заставило увидеть в предмете «сверхутилитарные» свойства. Вещи — немые свидетели бытия на экране становятся красноречивыми участниками событий далекой истории и современности. Мы видели, как через предметный мир зримо выражается связь прошлого и настоящего. Вещи рассказывают не просто о том, что окружало героев, но о них самих, об их идеалах, интересах, вкусах, привязанностях, о невидимых движениях их души. Вещи хранят тепло их рук, продолжают жить их жизнью даже тогда, когда самих героев уже нет на экране.
Передавая на экране предметную обстановку, определенным образом преображенную, автор выражает свое отношение к изображаемому. Еще в 1917 году Л. В. Кулешов заявил, что умение мыслить, «писать предметами» должно быть понято кинематографистами как один из самых принципиальных, специфичных моментов в творческом процессе создания фильма. Кулешов подчеркивал, что «писать предметами» в киноискусстве означает не холодное копирование натуры, а способность заставить объективно изображенную обстановку активно включиться в действие, работать на замысел 57.
Вещь-память, вещь-мечта, вещь-улика, вещь-друг или вещь-враг — трудно перечислить все возможные художественные' преображения и переосмысления вещи на экране. Потенциальная способность к подобным преображениям предмета таится в его существовании в жизни людей. Кинематограф с помощью своих специфических выразительных средств открывает, помогает увидеть и глубже понять некоторые особенности этого существования вещи в разных контекстах действительности: общественно-историческом, социально-культурном, в конкретном психологическом климате жизни и общения определенного круга людей 58.
Во все времена, в любом укладе быта человек вольно или невольно запечатлевает себя в окружающей обстановке. Вещи — факты материальной культуры принимают в себя от человека его
знания и умения, его традиции и опыт. Но не только принимают, а и передают другим людям. Первое путешествие ребенка по дому — это открытие целого мира, одно из начал того процесса, который ученые называют «социализацией индивида». Во встречах маленького существа с миром вещей начинается то, о чем Александр Родченко писал так: «Человек отличается от всякого животного именно тем, что с раннего детства он начинает играть, то есть он компонует и комбинирует игрушки, игры, кубики; он подражает взрослым и сам строит жизнь.
Это любопытно — проследить игры детей, как они компонуют жизнь. Как они фантазируют, исходя, конечно, от виденного или рассказанного...
...Мальчик строит домики, башни, роет в песке туннели, дороги, возит тележки, автомобили, пускает корабли, лодки, ведет войну оловянными солдатиками.
Девочки строят личное счастье — устраивают комнаты, спальни, обеды, тряпки, кукол и т. д.
Наконец, юноша начинает компоновать свою настоящую жизнь. Он оборудует комнату, расставляет вещи и раскладывает на своем столе.
По образцам других и взрослых он развешивает картины симметрично. По их образцу на письменном столе ставится в середине чернильница, лампа слева, пепельница справа, книги и бумаги справа, часы слева. Самые важные вещи лежат в правом ящике или в среднем и т. д.
Все это имеет свои традиции и законы...
Жизнь началась, и композиция развивается» 59.
Так через самые обыкновенные вещи постигаются правила и традиции человеческой жизни, закономерности практические и эстетические. Правда, все многообразие функций вещей в действительности осуществляется как бы незаметно. Люди привыкают относиться к предметной среде автоматически, не замечая богатства и сложности своих с ней связей. В жизни это неизбежно. В искусстве взаимодействие человека с вещами высвобождается из автоматизма восприятия, становится художественно значимым и выразительным.
«Встречаясь в жизни с предметами,— пишет В. А. Фаворский,— обращаясь с ними, знаешь, как они называются. Эти названия были в какой-то момент образами, но в нашей жизни мы с ними обходимся как со знаками, помогающими памяти. Эти знаки часто заслоняют от нас вещи. Вот искусство как бы снимает эти маски. Оно вновь раскрывает, что это такое, и тогда вещи вновь раскрывают совсем незнакомые стороны» Ы).
Интересно, что почти в тех же самых выражениях Бела Балаш характеризовал возможности, присущие искусству кино: изучать мир вещей, открывать «живую физиономию», свойственную всем предметам, «срывать покрывало», которое как бы носят на себе
эти предметы, обозреваемые нами в обыденной жизни по привычке, автоматически — и, стало быть, отвлеченно.
Однако, «снимая маски», «срывая покрывало», искусство каждый раз делает это целесообразно. Выведение восприятия за границы обыденного автоматизма — необходимое условие, исходная возможность, которая реализуется художником в соответствии с его конкретным замыслом, в подчинении законам создаваемого художественного мира, образной системы произведения. Внутри этой системы раскрываются не все возможные, но строго определенные, избранные эстетически-смысловые свойства предмета, обнаруживаются и прочитываются определенные его смыслы — те, которые важны для художественного построения фильма как целого.
Эти обнаруживаемые смыслы могут представать совершенно неожиданными. Такая неожиданность, парадоксальность функционирования вещей стала эстетическим принципом, характерным для целого жанра кино — жанра «комической». В его сюжетах постоянно обыгрывается алогичное, доходящее до абсурда использование бытовых вещей вопреки их утилитарному назначению. Крупнейшие мастера этого жанра, осуществляя данный принцип, достигали высоты истинного искусства.
У Бастера Китона многие трюки основаны на том, что блестящие технические изобретения вдруг выходят из-под власти героя: например, самоподающиеся на стол тарелки или самоубирающиеся кровати буквально объявляют ему войну. У Чаплина из подчинения выходят самые обыкновенные предметы. «В окружающем нас мире предметы — это орудие более или менее результативного и целенаправленного действия» — так Андре Базен указывает отправную точку связей человека и вещи. «Но по отношению к Чарли,— пишет он далее о чаплиновском герое,— предметы перестают выступать в своей служебной роли. Подобно тому, как общество принимает Чарли лишь на время и каждый раз в результате какого-нибудь недоразумения, так и предметы оказывают ему сопротивление всякий раз, как он пытается использовать их по назначению, по их социальному назначению; происходит это либо в результате смешной неловкости (особенно за столом), либо потому, что предметы отказываются ему повиноваться, проявляя злую волю... Однако те же самые предметы, которые сопротивляются Чарли, когда он пытается использовать их по прямому назначению, легко подчиняются ему, когда он употребляет их в необычных и многообразных функциях, в соответствии с потребностями момента» 6I.
Итак, можно сказать, что герой комических лент Чаплина терпит поражение, когда обращается с вещественной средой по общепринятым практическим законам, и одерживает победу, когда поступает с вещами по-своему, придавая им необычные функции, то есть когда действует по законам игры.
Параллель с детской игрой помогает прояснить некоторые
существенные моменты в том процессе смыслообразования, который происходит при создании конкретной образной системы фильма. Для ребенка игровой предмет сохраняет свою обыденную значимость: палочка, например, остается для него палочкой, то есть ему известны ее свойства, бытовые возможности обращения с ней — известно, так сказать, привычное значение палочки. Однако игра слагается из иных действий, чем те, которым соответствовало бы это привычное значение. Палочка приобретает особый, новый смысл: в процессе игры она становится, например, лошадью. Находясь в стороне, вне игры, ребенок может скептически заметить: «Ну какая же это лошадь? Это палка!» Но стоит ему стать участником игры, и палка превращается для бывшего скептика в лихого скакуна. Главное здесь — именно то, что игровой предмет воспринимается и мыслится ребенком двупланово: новый смысл, нужный для игры, действует на сохраняющемся фоне обыденного значения. Таков элементарный закон игровой психологии. Закон этот наглядно подтверждается в той «игре», в которую вовлечен зритель комического фильма: смеховая реакция, вызываемая игрою Чаплина или Китона с вещами, обусловлена каждый раз явным для зрителя противоречием между игровым смыслом, который придан вещи, и ее обыденным функциональным значением. Если бы этот фон обыденной значимости перестал восприниматься, то был бы утерян эстетический эффект игры, а сама вещь, вовлеченная в игру, перестала бы быть узнаваемой.
Есть, однако, еще одно существенное для киноискусства условие, которое помогают прояснить закономерности игры. С одной стороны, всякий предмет, оказавшийся в поле игры, поддается переосмыслению, а с другой — та или иная вещь может «отказываться» принять навязываемый ей смысл. В любой игре отнюдь не все может быть всем. Вот что пишет один из виднейших наших психологов о зависимости субъективного осмысления от объективных свойств предмета: «Когда ребенок, сидя за столом, создает игровую ситуацию, в которой фигурирует идущий человек (например, доктор, спешащий к больному или в аптеку), то карандаш, палочка или спичка одинаково могут заменить собой человека. С этими предметами ребенок может успешно осуществлять операцию перемещения, т. е. обобщенное движение, требуемое данным игровым действием. Другое дело, если в руке ребенка мягкий, круглый мяч. Требуемая операция с ним невозможна, движение лишается своей характерной конфигурации, «ходьбы», и наступает такой момент, при котором игровое действие становится уже невозможным» 62.
Эту проблему сопротивления материала (вещь поддается или не поддается переосмыслению) приходится решать и в ходе построения фильма. В одной из комических лент Чаплина, «За экраном», есть такой эпизод. Чарли вступает со своим партнером — гигантом в «артиллерийский» поединок: они швыряют друг в друга кре-
мовые торты. Опрокинув набок стол, Чарли использует его как орудийный щит, затем хватает две бутылки и манипулирует ими как биноклем. Этот гэг не состоялся бы, если бы конфигурация пары бутылок (и их фактура тоже) не заключала в себе отчетливую формальную аналогию с биноклем. Смысловое противоречие — источник комизма — действует со всей силой именно благодаря формальному подобию.
Тут подтверждается одна из общих закономерностей, присущих всякому искусству,— «форма заранее подсказывает нам тему» 63 — и обнажаются важные механизмы смыслообразования, действительные не только в области комического жанра.
Переосмысливать элементы изображаемой вещественной среды, подчинять их сквозному выражению авторской мысли и авторской эмоции, превращать их в своего рода знаки — такую задачу ставил в 20-е годы С. М. Эйзенштейн. Говоря о его творческих изобретениях, осуществленных в фильме «Октябрь», В. Б. Шкловский особо подчеркивал: «Это совершенно гениальная свобода обращения с вещами» 64.
Но чтобы достигнуть этой свободы, надо было решить проблему сопротивления материала. Путь, по которому пошел Эйзенштейн, давно уже исследован историками кино: «Возникает возможность избирать материал, исходя из его подчинимости авторской тезе. (...) Стремясь кратчайшим путем выявить свою мысль, автор «Октября» то и дело оперирует вещами, предметами, памятниками искусства — благодатными объектами съемки и монтажа, несущими с собою некие «готовые» смысловые возможности» 65.
В «Октябре» действительно собран и организован богатейший предметный материал. Его можно было в изобилии находить и выбирать среди вещественной обстановки Зимнего дворца — одного из главных мест действия фильма. Но еще более важно другое — то, что выбираемые вещи, главным образом предметы искусства, в ходе съемки и монтажа зачастую как бы переставали быть элементами реальной дворцовой среды, становясь элементами мысленного, кинематографического пространства — того пространства, в котором движется авторская мысль, выражающая себя посредством вещей-знаков. Не случайно Эйзенштейн и его сотрудники в поисках необходимых предметов вышли далеко за пределы Зимнего: они «обыскали, перерыли и поставили вверх дном все исторические и особенно этнографические музеи Ленинграда и Москвы» 66. В результате этих поисков были найдены те вещественные объекты съемки, которые дали, например, возможность построить монтажные фразы, выражающие авторскую оценочную мысль о тщете попыток контрреволюции. Недействительность корниловского лозунга «Во имя бога и родины!» была раскрыта с помощью элементов «мертвой натуры», которые сами по себе наделены символическим смыслом. Сначала это ряд культовых предметов, от барочно украшенного изображения Христа до примитивного, чурбанообразного
гиляцкого идола, а затем собрание военного и государственного декора: эполеты, аксельбанты, куча крестов — солдатских наград...
Эполеты, аксельбанты, кресты — сами по себе вещи-знаки. Божки, идолы по своему прямому назначению — атрибуты культа, призванные обслуживать идею. Две статуэтки Наполеона — сидящего на коне и стоящего — прямо и однозначно подсказывают ироническую ассоциацию с Корниловым и Керенским. Привычная значимость этих предметов, их традиционная функция и здесь присутствует как фон, на котором возникает иной, сниженный смысл: перед нами просто вещественные знаки кумирослужения, чинопочитания и т. д. Но так или иначе, все это предметы внебытовые, готовые носители смысла, и они беспрепятственно складываются в нужную режиссеру монтажную фразу. Там же, где Эйзенштейн оперирует вещами более «бытовыми» по своему назначению, они уже не могут столь отчетливо и прямо выражать авторскую тезу. Бокалы, графины, тарелки не так легко «расстаются» с практической функциональной значимостью. Они естественно тяготеют к тому, чтобы служить просто реальными атрибутами изображаемого интерьера.
Мешает ли это «сопротивление материала» выражению авторской идеи? Такое возможно в определенных случаях. Эйзенштейн считал, что именно это произошло в известном эпизоде фильма Довженко «Земля». По его мнению, инертный вещный материал помешал здесь точности воплощения человеческого образа:
«...для образных и внебытовых «манипуляций» кинокусок должен быть абстрагирован от бытовой изобразительности.
Такую абстрагированность от быта в известном случае может дать крупный план.
Здоровое, цветущее женское тело действительно способно подняться до образа жизнеутверждающего начала, который нужно было дать Довженко, столкнув его монтажно с похоронами в «Земле»...
Но все это построение... было обречено на неудачу, потому что вместо таких планов режиссер врезал в похороны общий план хаты и мечущейся в ней голой женщины. И зритель никак не может отделить от этой конкретной бытовой женщины то обобщенное ощущение... которое режиссер хочет перенести на сцену всей природы, пантеистически противостоящей теме смерти и похорон!
Не пускают ухваты, горшки, печь, полотенце, скамейки, скатерти — все эти детали быта, от которых это тело легко мог бы освободить обрез кадра...» Ь7
Такая постановка проблемы естественна для Эйзенштейна. У него самого «ухваты, горшки, печь...» и т. д. в фильме «Генеральная линия» были не «изобразительной бытовщиной», а служили передаче обобщенного образа деревенского быта, служили выражению темы — по-своему так же точно несли смысл, как и те вещи-знаки, которые были передатчиками авторской идеи в фильме «Октябрь».
I
Однако в «Генеральной линии» это уже не вещи-знаки и они уже не абстрагированы в такой степени от их реального контекста, не противопоставлены ему.
Кинематограф менялся, менялись и основные способы трактовки вещного мира на экране. И Шкловский, обращаясь к Эйзенштейну, говорил об «Октябре» уже по-новому:
«А Ваше восстание посуды в «Октябре»?! Изумительнейшая война с вещами в Зимнем дворце.
Трудно было воевать с посудой, с вещами.
Вы победили Керенского, развели мост и все же не взяли Зимний дворец.
Нужно брать вещь как всякую вещь, как простую» <>8.
В фильме «Чапаев», в одной из главных, наиболее значительных его сцен, центром внимания и носителем смысла оказался самый простой — проще быть не может — деревенский «натюрморт». Вот как вспоминал об этой сцене Б. А. Бабочкин:
«Она была найдена случайно. Летом 1933 года мы сидели в избе у колхозника в деревне Марьино Городище и ждали солнца. [...] На столе — гранаты, пулеметные ленты; в углу свалены винтовки. За окном пыхтит допотопный автомобиль. Мы — чапаевцы. Хозяйка принесла угощение — вареную картошку. Рассыпалась по столу картошка, и одна, уродливая, с наростом, выкатилась вперед. Кто-то сказал: «Идет отряд походным порядком. Впереди командир на лихом коне...» Хозяйка поставила на стол огурцы. «Показался противник»,— добавил другой.
Запомнили этот случай и потом в Ленинграде быстро и весело сняли эту сцену, несколько изменив первоначальную наметку сценария» (><).
Дело в том, что сцена, в которой Чапаев дает своим соратникам молниеносный урок боевой тактики, «Где должен быть командир?», была задумана братьями Васильевыми с самого начала и присутствовала уже в первом варианте сценария. Но режиссеры были озабочены «поисками более конкретного «вещного» выражения темы» 7(). Как герой поясняет свою мысль, как он делает ее наглядной? С помощью рисунков на песке? Или, может быть, раскладывая яблоки? По-видимому, надо было, чтобы вполне определилась-атмосфера действия, чтобы исполнители и участники почувствовали себя в реальной обстановке изображаемых событий, сами себя ощутили действительными персонажами («Мы — чапаевцы!»),— и тогда, словно дождавшись своего момента, «выкатилась вперед» на деревенском столе эта большая, с наростом картофелина, подсказывая самое органичное выражение темы, как будто соглашаясь принять на себя тот смысл, который давно уже был предусмотрен и задан. Так, одушевленная живым действием актеров-персонажей, родилась эта знаменитая «вещная мизансцена», которую трудно даже назвать натюрмортом: несколько картофелин на деревянной поверхности стола, а рядом — раскуренная фурмановская трубка,
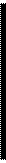 своим дымком и самой своей формой напоминающая нечто вроде пушки 71.
своим дымком и самой своей формой напоминающая нечто вроде пушки 71.
Сцена «Где должен быть командир?» стала образцом взаимодействия человека и вещественной среды на экране. И здесь же ясно видны те принципиальные различия в подходе к «поэтике вещи», которые существуют между «Чапаевым» и «Октябрем» и, можно сказать шире, между киноповествованием 30-х годов и метафорическим кинематографом двадцатых.
Фильм «Октябрь» с особой наглядностью выявил одну из отличительных тенденций этого кинематографа — стремление превратить элементы вещественного мира в средство прямого выражения авторской мысли, претворить их в «речевые» элементы авторского высказывания. Осмысление вещи в «Октябре» идет непосредственно от автора.
В «Чапаеве» же, как и в других важнейших произведениях нового периода, осмысление вещи возникает изнутри изображаемой картины жизни, оно идет от персонажей и их взаимоотношений — и, стало быть, в равной степени служит тому, чтобы углубить и развить индивидуальные характеристики самих этих персонажей.
Такой принцип трактовки вещи (и вещественной среды) вошел в культуру кино и подтверждался на всех последующих этапах его эволюции.
Традицию изображения и осмысления вещей, давно развивавшуюся в литературе, живописи, театре, кинематограф перенес на свою почву и продолжил по-своему. В кино, где вещь не подвластна изобразительной деформации так, как в живописи, и не опосредована словом, как в литературе, максимально используется выразительность, реально присущая тому или иному предмету.
Важно, что изображается физически реальный предмет, но не менее важно то, что он изображается. Как писал Эйзенштейн, «в отличие от театра, где физически реальный человек (актер) соединен с изображаемой реальностью среды, экранный образ оперирует только элементами изображения реальности, а не элементами физической реальности. Это дает возможность и предпосылку к соизмеримости всех элементов тонфильма» 72. В этом заключается главная предпосылка к многообразию тех соотношений, в которые вещь может вступать на экране, выявляя в их контексте свою значимость, как и характер жизненных связей, исследуемых в фильме.
Для художественного «преображения» вещи, для ее осмысления автор фильма располагает всем комплексом изобразительно-выразительных средств кино. Имеет значение все: и то, каким ракурсом вещь снята, каков был рисунок света, имели ли зрители возможность внимательно разглядеть ее, или вещь промелькнула в кадре на втором плане, как «проходной персонаж».
Так же как в 20-е годы киноискусство разработало и довело до совершенства способы осмысления вещей в монтажном сопоставлении, в столкновении «очищенных» кадров-знаков, так в дальней-
шем, особенно в послевоенный период, кино с такой же тонкостью освоило формы осмысления вещей, введенных в многосоставное внутрикадровое изображение жизни.
Вот одно из наблюдений Андре Базена. Рассматривая фильм Лукино Висконти «Чувство» (действие которого происходит в годы борьбы за объединение Италии), критик пишет:
«Приведу один пример из сотни возможных. За несколько минут до сражения итальянские солдаты, прятавшиеся за стогами соломы, выходят из укрытия и выстраиваются для атаки. Офицеру подносят знамя, но не развернутое, а совсем новенькое, в чехле, и, чтобы его развернуть, знамя нужно сначала расчехлить. Это едва заметная деталь огромного общего плана, все элементы которого разработаны с той же тщательностью.
Вообразим аналогичную сцену у Дювивье или Кристиана-Жака: у них знамя было бы использовано как драматический символ или элемент мизансцены. Для Висконти прежде всего важно, что знамя ново (как и сама итальянская армия), но его манера подчеркивать желаемое совершенно не зависит от построения кадра и отмечена лишь усилением реализма» 73.
Замечания Базена опять возвращают нас к проблеме переосмысления функций вещи. Символическая значимость, присущая знамени, в анализируемой батальной сцене как бы отодвигается, приобретает фоновый характер, как что-то само собой разумеющееся, а прочитывается в кадре прежде всего «деловое» функционирование знамени — наравне с ружьями, которые надо заряжать. Но одновременно этот прозаический взгляд на знамя дает возможность выявить, как уже отмечено критиком, точную характеристику исторического момента.
Правда, необходимо оговорить, что пример со знаменем — пример не совсем обычный. Знамя, как, допустим, зеркало или часы, принадлежит к исключительному разряду предметов, которые в контексте человеческого общения, культуры, быта приобрели некий особый диапазон смыслов — от чисто бытовых, обиходно-вещных до обобщенно-символических, выработанных духовной культурой. Они обладают особой «киногеничностью». Не просто «фотогеничностью», но именно «киногеничностью». Они вошли в число излюбленных вещей, раскрывающих в разных кинематографических контекстах свои разные смыслы. Порой собственная символика этих особых предметов оказывается настолько сильной и многозначной, что возникает необходимость ее снизить, убрать «лишнее», ненужное для построения данного художественного мира. Сколько сказочных, фольклорных, суеверных мотивов связано, например, с зеркалом. С равным успехом и изобретательностью им пользовались злые и добрые волшебники. С помощью зеркала в искусстве решалась тема двойника, через зеркало осуществлялись путешествия в иные миры и измерения. В пластических искусствах зеркало использовалось как средство для умножения
6 Е С. Громов и др 161
и раздвижения пространства, средство, помогающее автору построить более сложную и многоплановую мизансцену.
Уже на уровне бытового существования зеркала возникает ощущение странности, неоднозначности. Необычность начинается с его обычного назначения — отражать. Сколько непохожих друг на друга киновариантов породил всего лишь один «зеркальный» мотив — возможность для героя вглядеться в собственное лицо. Не случайно, для того чтобы показать масштаб дарования Асты Нильсен, Б. Балаш п *чоем эссе сравнивает два эпизода из одного фильма с ее участием. .. >ч они, с разрывом в десять лет, происходят в одном месте — в гримерной певицы, роль которой она исполняет. Сначала к выходу на сцену готовится знаменитая дива, уверенная в успехе. Она накладывает перед зеркалом грим, как непобедимый герой надевает доспехи. Собственно, грим не так уж и нужен: певица знает, что без всякой косметики — неотразима. В конце фильма перед тем же зеркалом красится старая, увядшая женщина. Она гримируется для того, чтобы встретить, спустя десять лет, своего все еще молодого возлюбленного. На этот раз — никакой самоуверенности. Женщина смотрит в зеркало с тоской и страхом, дрожащими руками принимается за работу, затем рассматривает результат — отражение в зеркале с безнадежной жестокостью выносит ей свой приговор: все попытки скрыть возраст тщетны, битва проиграна.
На самом крупном плане лица героя, вглядывающегося в свое отражение в зеркале, строит финал картины «Частная жизнь» режиссер Ю. Райзман. Финальный эпизод начинается с известия о том, что героя картины Абрикосова (М. Ульянов), крупного хозяйственного руководителя, оказавшегося не у дел из-за слияния двух предприятий, вызывают в министерство. Героя Ульянова будто мгновенно срывает с места, и с этой минуты резко меняется ритм картины. Если раньше напряжение фильма держалось как раз на заторможенности, на искусственном бездействии, мучительном для сильной, энергичной натуры героя, то теперь внутреннее напряжение выплеснулось наружу, бездействие, расслабленность перешли в свою противоположность: он стремительно собирается, подтягивается, готовится к предстоящему разговору о том, что было для него всегда главным, чему всегда была подчинена его жизнь,— о работе. Белая рубашка, темный костюм, галстук, обязательно успеть побриться. Абрикосов не ходит, он носится по квартире, не замечая (как это было всегда), ни жены, ни сына, ни собственного дома. Невеста сына, не вовремя подсев к пианино, пробует подобрать что-то веселое — ее обрывают — все в доме понимают, как важны эти минуты для Абрикосова. Одеваясь в спальне перед зеркалом, он не видит собственного отражения, мысленно перебирая возможные детали будущего разговора с министром: что тот может ему предложить, что он сам мог и хотел бы сказать. А что, собственно, он хотел бы? Этот (или аналогичный) вопрос вдруг выводит Абрикосова из раздумий,— как бы пытаясь ответить на
него, он начинает внимательно вглядываться в отражение своего лица в зеркале. Этот финальный план длится так долго, что вслед ш героем и зрители начинают задумываться над тем, что скрывается w мужественным, волевым лицом человека, который смотрит на них из зеркала. Так авторы заставляют вернуться к подробностям только что просмотренного фильма, заставляют заново их увидеть, мо-новому понять. Крупный план зеркального отражения лица Абрикосова — это и итог их наблюдений и раздумий о потерях и приобретениях в частной жизни героя, в его отношениях с женой, детьми, близкими и друзьями, и «открытый финал», оставляющий много нерешенных вопросов на суд зрителей.
Отражение в зеркале как самоутверждение героя, отражение — разоблачение, отражение как самоанализ и самопознание, как открытия своего «я» — трудно перечислить все вариации этого зеркального мотива, позволившего проявить изобретательность и талант многим актерам и режиссерам. Важно указать на один из самых среди них глубоких и сложных — это мотив очной ставки с собственной совестью.
В самом начале картины Л. Шепитько «Восхождение» есть небольшой эпизод, который затем в дальнейшем развитии действия заслоняется более значительными событиями. Сотников и Рыбак, плутая по снежной пустыне, случайно набрели на пепелище. Среди обуглившихся обломков того, что еще недавно было одним из домов теперь больше не существующего хутора, они нашли маленькое женское зеркальце — круглое, в роговой окантовке, с картонной картинкой на обороте. Таких было много — и до и после войны. На обороте картонки обычно печаталась фотография центра какого-нибудь столичного города. Маленькое зеркальце в роговой оправе нужно было авторам в начальных сценах, до того как герои войдут в занятый фашистами хутор. Там даже интерьеры изб, сохраняя жилой облик, будут очищены от бытовых подробностей. И чем ближе к концу фильма, тем больше кадр будет прочитываться символически... Но пока до занятого фашистами хутора далеко. Далеко до ситуации выбора, в которой сломается и станет предателем Рыбак. А пока найденное на месте бывшего жилья круглое зеркальце в роговой оправе вызывает у Рыбака естественную реакцию: ненависть к врагу. Он крутит зеркальце в руке и как бы невзначай задерживает на несколько секунд взгляд на собственном отражении. Режиссер заставляет Рыбака взглянуть себе в глаза, тем самым намечая важнейшую для фильма тему: тему очной ставки героя с собственной совестью. Делает это Л. Шепитько очень осторожно, ничего не педалируя, понимая огромную выразительную силу такого необычного предмета, как зеркало. И вот еще что необходимо оговорить. Среди развалин можно было найти, например, осколок большого зеркала, но режиссеру нужен был именно такой предмет: со своим «характером», с печатью житейского, бытового, предмет, вызывающий самые мирные, довоенные ассоциации.
б* 163
Особое место занимает зеркало в сюжетах фильмов А. Тарковского. Зеркало не только как конкретная вещь, как предмет, но и как смыслообраз. Кажется вся богатейшая культурная символика зеркала, сложившаяся на протяжении веков, «работает» в его картинах: от древних представлений о мироздании как системе взаимонаправленных зеркал, от зеркала, понимаемого как средство постижения высшего начала, как логическое орудие, дающее возможности увидеть невидимое, до зеркала как средства непосредственного физиогномического проникновения в сущность человека, как инструмента самопознания. При этом традиционные значения приобретают в кинематографе Тарковского свой собственный, иногда даже независимый от традиции смысл. Здесь надо оговориться, что образный мотив зеркала выходит далеко за пределы непосредственного изображения зеркала как вещи.
Так, например, общеизвестный зеркальный мотив романтиков — мотив двойника, связанный с расщеплением личности, с борьбой противоречивых начал, заложенных в человеческой природе,— у Тарковского вывернут наизнанку, превращается в тему антидвойника. Двойник в искусстве романтизма воплощал одну из ипостасей натуры героя, отделялся от нее, начинал жить своей самостоятельной жизнью. Приехавший в Рим русский Андрей Горчаков, герой «Ностальгии» Тарковского, видит отражение кризиса, своей тревоги, тоски и отчаяния в сумасшедшем итальянце Доме-нико, одержимом идеей спасения обезумевшего, не понимающего, что оно находится на грани гибели, человечества. Зеркала помогают выразить эту мысль режиссера пластически. В неуютном, нежилом жилище Доменико на голых стенах висят два высоких зеркала. В одном отражается Андрей, в другом — Доменико. Между героями идет диалог, и снят он так, что кажется разговаривают друг с другом не сами герои, а их отражения. Но вот мизансцена меняется и в зеркале, в котором только что было отражение Доменико, возникает отражение Андрея — так же, как герои переместились в пространстве, их отражения «поменялись местами». Дальнейшее пластическое развитие идея антидвойника получила в сне Андрея: он смотрится в зеркальную дверцу шкафа и вместо своего отражения видит лицо Доменико. Два человека объединились в одно целое, отразились друг в друге как в зеркале. В своем сне Андрей как бы принимает от Доменико чашу ответственности. А название фильма в этой связи звучит не только как сжигающая героя тоска по Родине, но и как тоска по «родственным душам», по состраданию, сочувствию, соединению. Зеркало помогает выявить, сделать наглядным глубинное, первозданное душевное первородство двух разных людей. И не такой бредовой уже кажется формула, выведенная Доменико: 1 + 1=1.
Зеркало истории, зеркало памяти, зеркало совести, зеркало воображения, зеркало снов — трудно перечислить все смыслы, которые обретает зеркало в другом фильме, который так и называется.
Зеркало участвует в самом моменте рождения личности, рождения самосознания. В эпизоде с сережками юный Автор ненадолго остается в комнате один. Случайно его блуждающий взгляд падает на висящее напротив овальное зеркало в раме. Вдруг лицо мальчика преображается. Он начинает пристально вглядываться в свое отражение, будто впервые увидел себя со стороны. Отраженное и зеркале «Я» превращается для него в «Он». Каме
Последнее изменение этой страницы: 2016-08-11
lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...