
Категории:
ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника
II. ПОЭТИКА И ТРАДИЦИЯ РУССКОГО СТИХОТВОРНОГО РОМАНА
«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» И «ЕВГЕНИЙ ВЕЛЬСКИЙ»
Открытая традиция «Онегина» возникла на путях эпигонства, образцы которого немедленно появились по выходе из печати первых глав пушкинского романа. Некоторые из них выступили под видом пародии, чтобы хоть отчасти имитировать преодоление онегинского притяжения. Ранние подражания «Онегину», появившиеся еще до того, как роман вышел полным изданием (1833), довольно подробно описаны И.Н. Розановым. В первой из двух его работ он отметил «совершенно исключительное внимание, несравнимое с другими произведениями Пушкина», которое «имел у поэтов "Евгений Онегин"» (1)* и т. д. Правда, подражание «Онегину» здесь рассматривается среди разнообразных подражаний Пушкину вообще, и главное, что описание идет не в аспекте жанра, а по поводу восприятия романа в целом, отдельными главами, и заимствований из «Онегина» отдельных мотивов. Зато другая работа И.Н. Розанова непосредственно посвящена онегинскому жанру, и, в сущности, это исследование, вышедшее 50 лет назад, остается единственным, конкретно касающимся проблемы. И.Н. Розанов знал материал, ощущал, видимо, актуальность темы и необходимость ее дальнейшей разработки, но продолжения не последовало.
Исследователь начинает с классификации: «Есть три основных вида подражаний: 1) подражание - мода. Всякий крупный успех выражается, между прочим, в эпидемии подражаний; 2) подражание - усвоение чужого творчества; 3) подражание - создание аналогичных ценностей» (2)*. Несмотря на обобщенный характер разграничения, совершенно ясно, что подражательные тексты, упоминаемые в работе, укладываются лишь в первые два пункта и вызваны прежде всего модой. Действительно, традиция «Онегина» начинается с того, что жанр опрокидывается в поток массовых эпигонских подражаний. Исключений почти нет. Внимание И.Н. Розанова привлекают следующие тексты: «Сашка» (1825-1826) А.И. Полежаева, «Котильон, глава первая из стихотворного романа "Ленин, или жизнь поэта"» (1829) Н.Н. Муравьева, анонимный «Иван Алексеевич, или Новый Онегин. Глава первая. Воспоминание» (1829), «Отрывок из романа в стихах» (1830) А. Башилова, «Владимир и Анета (первая глава романа)» (1830) А. Северинова и некоторые другие. И.Н. Розанов подробно и объективно описывает каждый роман с фабульно-содержательной стороны, отмечая сходство с «Онегиным». Он не критикует и не развенчивает, эстетическая оценка скрыта, изложение беспристрастно и серьезно. В заключение И.Н. Розанов характеризует сходства и отличия ранних подражаний «Онегину». Непременной чертой их явилась оборванность содержания, что было вполне естественно, так как подражатели имели дело с первыми главами «Онегина». Но И.Н. Розанов добавляет, что не знает ни одного доведенного до конца романа в стихах вплоть до 1840 г. Это, конечно, означает, что подражатели увидели в «романе без конца» черту жанра. Ситуации всегда напоминали онегинские, например, поездка героя, но персонажи чаще всего снижались, демократизировались, упрощались. Порой их число еще более уменьшалось, действие переносилось в провинцию. И.Н. Розанова интересуют по преимуществу черты тематики, сюжета, персонажей. В принципе, характеристика жанра, данная И.Н. Розановым, может быть расширена.
Однако мы не будем возвращаться к перечисленным выше романам. Два из них пародируют «Онегина». «Сашка» А.И. Полежаева описан неоднократно (И.Н. Розанов называет его полупародией-полуподражанием), а «Иван Алексеевич, или Новый Онегин» осмеивает заглавие и содержание, обыденность и разбросанность пушкинского романа. Остальные три романа повествуют о своем. Можно добавить к списку И.Н. Розанова «Капитана Храброва» (1829) В.Л. Пушкина и «Сироту» (1833-1834) В.К. Кюхельбекера, хотя в последнем случае отнесение к роману в стихах, пожалуй, проблематично. Однако мы пропустили один текст, разобранный И.Н. Розановым.
Романы, описанные И.Н. Розановым, нет основания пересматривать. Достаточно отсылки к его работе. Но в его списке на видном месте находится роман в стихах, который для него во многом остался загадкой и который до сих пор привлекает исследователей. Это «Евгений Вельский». Долгое время роман считался анонимным, но в 1972 г. К. Турумова описала его как принадлежащий представителю «низовой» беллетристики М.И. Воскресенскому, приведя краткую историю его атрибуции (3)*. Так это или не так, для нас не слишком важно, хотя фигура М.И. Воскресенского как коммерческого автора достаточно характерна. Несмотря на почти исчерпывающие разборы «Вельского», сделанные И.Н. Розановым и К. Турумовой, представляется целесообразным еще раз подробно остановиться на нем. Речь пойдет о сопоставлении в плане жанра, взятом в типологическом отношении шедевра и шаблона. Сличим «Евгения Онегина» и «Евгения Вельского».
«Евгений Вельский», как и роман Пушкина, начал выходить отдельными главами в 1828-1829 гг., что как непривычный авторский и издательский прием привлекло внимание читателей. Судя по датам цензурных разрешений, роман писался после выхода первых трех глав «Онегина». Во всяком случае, три главы «Вельского» появились параллельно с выходом четвертой - пятой и шестой глав пушкинского романа. В дальнейшем незначительные отрывки из четвертой главы «Вельского» были напечатаны в альманахе «Полярная звезда на 1832 год», а затем этот несколько нашумевший роман, на дерзкий выпад которого как соперника «Онегина» живо реагировали современники, вдруг как в воду канул - больше никогда ничего не было.
Есть какой-то мрачноватый курьез в том, что, пока Пушкин замедлил работу над «Онегиным», раздумывая, как продолжать его после шестой главы, а читателям была известна лишь треть едва развернувшегося романа, в Москве, в книжечках точно такого же формата, как онегинские главы, явился перед публикой роман в стихах «Евгений Вельский», залихватское сочинение, беззастенчиво варьирующее пушкинские мотивы. Новоявленный роман развертывался столь быстро, что странным образом предвосхитил некоторые будущие ходы «Онегина». Сдается, что, обладай автор «Вельского» еще большей расторопностью и развязностью, он способен был бы (не в поэтическом смысле) продолжать «Онегина» впереди Пушкина. У нас нашелся бы Авельянеда, столь хитроумно сумевший в свое время перехватить у Сервантеса «Дон-Кихота».
Неудивительно, что и И.Н. Розанов и К. Турумова задумались над вопросом, с чем же мы имеем дело и что перед нами: «спекуляция на новый модный жанр, добросовестная попытка дать посильное изображение знакомого быта или, наконец, как думал "Московский телеграф", талантливая пародия на подражателей Пушкина?» (4)*. Или же «двойник, причем, может быть, и похожий, но совершенно безжизненный» (5)*. О пародии на подражателей Пушкина гадали еще современники: «"Евгений Вельский", вероятно, написан для шутки. Автор хотел в смешном виде представить охоту подражать, делающую столько зла нашим стихотворцам; иначе кто же не шутя решится писать поэму, в которой название, расположение, все до смешной точности скопировано с "Онегина"?» (6)* Попытаемся и мы, в свою очередь, решить, как же соотносятся между собой образец и копия. Для этого попробуем сжато экспонировать «Евгения Вельского», в надежде, что сам текст покажет себя.
Мог ли быть написан «Евгений Онегин» без «Дон-Жуана» Байрона? Вероятно, да, хотя кое-что написалось бы иначе. «Евгений Вельский», однако, без «Онегина» просто не мог бы возникнуть. Он существует только в отношении к «Онегину», на его фоне. «Вельский» начинается с «Разговора автора с книгопродавцем», пролога к первой главе, подобно тому, как это было у Пушкина в «поглавном» издании его романа:
Автор:
Не хочешь ли ты, милый друг,
Купить мое стихотворенье?..
Книгопродавец:
Эх сударь! Право, недосуг,
Оставьте ваше сочиненье –
Божусь вам - мне не до него,
Своих хлопот ей-ей беремя!
Когда-нибудь в другое время... (7)*
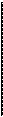 По сравнению с Пушкиным все перевернуто. К. Турумова отметила, что у Пушкина «Разговор книгопродавца с поэтом», а здесь «Разговор автора с книгопродавцем» и «поэт» снижен до «автора». Характерно также, что «Разговор» в «Вельском» начинается ровно с того места, где у Пушкина кончается: автор предлагает рукопись. Однако позиции персонажей поменялись. У Пушкина поэт отдает рукопись в результате настойчивых увещеваний книгопродавца. Здесь же автор развязно уговаривает книгопродавца «купить стихотворенье», а тот отбивается от его наскоков:
По сравнению с Пушкиным все перевернуто. К. Турумова отметила, что у Пушкина «Разговор книгопродавца с поэтом», а здесь «Разговор автора с книгопродавцем» и «поэт» снижен до «автора». Характерно также, что «Разговор» в «Вельском» начинается ровно с того места, где у Пушкина кончается: автор предлагает рукопись. Однако позиции персонажей поменялись. У Пушкина поэт отдает рукопись в результате настойчивых увещеваний книгопродавца. Здесь же автор развязно уговаривает книгопродавца «купить стихотворенье», а тот отбивается от его наскоков:
В Жуковские не попадаете
И Пушкиным вам не бывать!
Автор:
А! Вот о Пушкине - и кстати –
Ты знаешь, у него в печати
Поэма есть...
Книгопродавец:
Его Руслан?
Автор:
О нет; тот маленький роман...
Книгопродавец:
Евгений? Кто его не знает?
Роман нам этот доставляет
Таки порядочный доход...
(С. V-VII)
Ситуация круто меняется. Книгопродавец уже заинтересован, и автор добавляет:
И это-то стихотворенье
Я пародировать хочу...
(С. VII)
Трудно сказать, что понимал автор под пародированием, но, вероятно, хотел пересмеивать и вышучивать «Онегина». Замысел не мог быть выполнен. Причина - несопоставимость дарований Пушкина и Воскресенского. Явление пародии несомненно приобретает различный смысл оттого, кто кого пародирует: Пушкин - Хвостова или Хвостов - Пушкина. В последнем случае пародия неминуемо должна обратиться на самое себя, и, соответственно, «Евгений Вельский» превращается в автопародию. С поэтической стороны приведенные выше стихи предельно несостоятельны:
И это-то стихотворенье...
Подобная «звукопись» немыслима у Пушкина: сначала зияет «иэ», затем назойливо бренчит «то-то-ти-от», причем второе «то» вставлено для заполнения стопы. Вообще грубая фоника «Вельского» тарахтит без всякой меры. Автор не слышит звука и поэтому не может соотнести звучание пушкинского стиха с звучанием своего в целях пародии. Фоника «Вельского» довлеет себе, пародирует и уничтожает себя.
Различение «хороших» стихов от «плохих» традиционно считается трудной проблемой на уровне теоретического доказательства Однако текст «Вельского» почти снимает эти трудности:
Мой жребий был досель безвестным.
Я был поэт, но про себя –
Теперь, путь славы полюбя,
Я также быть хочу известным.
(С. V)
Поэтическая несостоятельность этих стихов видна в тавтологической рифме, случайном порядке обрывистых слов, из чего следует необязательная и избыточная ударность. В то же время «желание славы» едва прикрывает ненасытимую жажду коммерческого успеха, которая является истинной двигательной силой и автора-персонажа, и реального сочинителя. «Разговор автора с книгопродавцем» - диалог двух торгашей или, еще точнее, удвоенная проекция единого. Внепоэтический, меркантильный интерес автора «Вельского» тоже выводит сочинение за рамки пародии. При желании можно заподозрить пародийную стилизацию в следующем отрывке:
Книгопродавец:
Я вашу рукопись куплю -
Кто знает? Может быть, пойдете
Вы чрез нее и в славы храм?
Автор:
А вы барыш ей наживете:
Вот прибыль и обоим нам!
Книгопродавцы и поэты
Связь тесную должны иметь -
Мы все, бессмертием одеты,
Должны и вас кой-чем одеть!
Евгений, Пушкина поэма
 Книгопродавцам не наклад,
Книгопродавцам не наклад,
А у меня ведь та же тема
И, следственно, такой же клад.
(С. IХ - Х)
Вряд ли этот «гимн» литературной коммерции является объектирован-ным изображением циничного дельца от поэзии. Перед нами, скорее, нарочитая бравада, призванная своей трескотней и видом пародийности замаскировать, как уже было сказано, действительные цели действительного сочинителя. Он, видимо, вполне серьезно полагал, что у него онегинская тема и что одной темы достаточно для авторской престижности и связанной с ней меркантильности. О существовании поэзии как искусства он не догадывался, о необходимости поэтического воплощения мыслей и чувств понятия не имел, а если имел, то знал, что этим даром не обладает, но своих читателей обморочит, потому что они знают еще меньше, чем он. Эти установки подтверждаются ходом всех трех глав романа.
Мелкопоместный дворянчик Евгений Вельский едет из Тамбова в Москву к графу Знатову, которому доводится дальним родственником. Первая глава посвящена сборам в дорогу, проводам и отъезду. Повествование прерывается авторскими включениями и ретроспекциями различного рода, из которых мы узнаем о детстве, наружности, характеристике, воспитании, наклонностях героя. Черты поэтики как будто онегинские; есть пропущенные строфы, означенные цифровым рядом, да и сами строфы как в пушкинском романе. Следует заметить, однако, что онегинская строфа далась М.И. Воскресенскому с величайшим трудом: до 28-й строфы первой главы он просто не мог ею овладеть, а овладев, не сразу смог соблюдать ее условия. Создается впечатление, что он учился писать стихами в процессе сочинения романа, но печатал все. Еще в третьей главе он случайно или умышленно «вклеил» в строфу 15-й стих, тут же обыграв свою оплошность. Игр с читателем в «Вельском» сколько угодно, да только все эти игры подражательны, деланны и выспренни. Первая глава кончается так:
Пока довольно, мой читатель!
Не сердишься ли на меня,
Что я плохой повествователь?
Пожалуй, замолчу ведь я!
Боясь прослыть за метромана,
Героя моего романа
Не познакомлю я с Москвой -
И кончу все одной главой.
- Но разве пишешь ты для света,
Что так страшна тебе хула
И интересна похвала? -
Шепнула мне моя Лилетта.
О, сердцу милые слова!
Для вас вскипит еще глава.
(Гл. 1. С. 44)
Попугавши читателя отсутствием продолжения, автор переходит ко второй главе, начинающейся эпиграфом из «Онегина»: «Без неприметного следа Мне было б грустно мир оставить» и т. д. Вельский приезжает в Москву, сопровождаемый «дворецким или дядькой» Романом, имя которого еще до этого используется для игр остроумия:
На облучке сидит Роман...
(С. 24)
А ты, Роман, там есть мешок.
В нем круглый, кажется, пирог...
………………………
Роман, Роман! Всего, брат, пуще
Смотри, чтоб сливки были гуще.
(Гл. 1. С. 33)
(Вспомним, что в «Разговоре» утверждается:
Роман нам этот доставляет
Таки порядочный доход).
Роман у автора, конечно, не случайно окружен желудочными рефлексами. Однако вряд ли при этом было учтено слишком откровенное самоописание.
Перед нами богатый дом графа Знатова, за домом сад:
В нем три беседки, два пруда,
И в них (для рифмы уж) вода
Поверхностью блистает чистой.
(Гл. 2. С. 5 - 6)
Пояснение в скобках, уничтожающее автономность описания, свидетельствует о том, что сочинитель «Вельского» уже прочел четвертую главу «Онегина» и оценил в ней стих «Читатель ждет уж рифмы р о з ы». Старый граф, находящийся в момент приезда Евгения в отлучке, женат на совсем юной девице, которая тем более привлекательна, что
И с миллионом, и мила.
(Гл. 2. С. 8)
Звуковые переклички в этом стихе могут быть объяснены только желанием сострить. Музыкальная сторона, безусловно, не учитывалась.
 Хоромы графа Знатова ярко освещены. Здесь разыгрывается домашний бал-маскарад. Евгений впопыхах попадает не то в будуар, не то в спальню графини, где ему предстоит несколько пикантное зрелище ее туалета. Затем герой вопрошает:
Хоромы графа Знатова ярко освещены. Здесь разыгрывается домашний бал-маскарад. Евгений впопыхах попадает не то в будуар, не то в спальню графини, где ему предстоит несколько пикантное зрелище ее туалета. Затем герой вопрошает:
...Куда же,
Роман, мы явимся теперь?
(Гл. 2. С. 28)
Являются на бал, картиной которого глава заканчивается. Впрочем, за описанием следует, как положено, переключение в авторский план. Надо сказать, что от главы к главе авторский план все более разбухает. Тут и литература, и сатира, и ответы на критики, и сетования на одиночество, в котором:
Лишь ты, о милая Лилетта,
Мой нежный, добрый рецензент,
Одна на звание поэта
С улыбкой мне дала патент...
(Гл. 2. С. 16)
Подобный стилистический винегрет характерен для «Вельского», где журналистские и деловые термины приставляются к поэтическим клише.
Третью главу снова предваряет эпиграф из «Онегина»: «Все поэты Любви мечтательной друзья». Она открывается уже приевшейся словесной игрой:
«Кто там стучит? Роман, не ты ли?»
- Конечно я! «Войди скорей...»
(Гл. 3. С. 47)
Бал-маскарад еще продолжается. Его перебивают авторские отступления о луне, о снах. Затем следует сон самого героя, в котором он видит танцы, леса, ручьи. Пробудившись, Вельский идет в сад, заходит в беседку, где видит «картину в золоченой раме». Пока он любуется портретом графини, автор замещает сюжетное время излияниями о любви, копируя пушкинский ход в первой главе «Онегина», когда авторские строфы о ножках подменяют описание бала без героя. Вдруг сзади раздается шорох: Вельский оглядывается - она! Но напрасно читатель надеется, что сейчас начнется фабула. Наш автор прекрасно освоил технику перебивов повествования и прием обманутого ожидания:
Но виноват за отступленье,
Простите сердцу и перу!
Сейчас примусь за продолженье,
Лишь только слезы оботру...
(Гл. 3. С. 61)
Почему автор плакал, остается неизвестным. Может быть, он не знал, что ему делать со своими персонажами после их знакомства. Продолжения не следует, но читателю долго объясняют, почему роман уклоняется от изображения любви, ревности, кровавых поединков. Вводится грибоедовский мотив «ума». Все это мотивирует трехлетний перерыв, после чего следует:
Кто это в синем вицмундире
С малиновым воротником?
(Гл. 3. С. 70)
Не задерживаясь, роман шествует дальше:
Но - першагнем еще годок.
(Гл. 3. С. 7)
«Першагнем» - не единственный эпизод, где автор с легкостью необыкновенной преодолевает стеснения метра. Подобным образом Евгений, прощаясь с тамбовскими девицами,
Перцеловал всех наподряд.
(Гл. 1. С. 23)
Через «годок» Вельский после чиновничьей службы почему-то учится в университете, и московское общество осуждает его, как Чацкого. В отступлении автор оправдывается:
Где ж делась милая графиня?
…………………………….
Но, господа, - не осудите!
Я как умею, так пою.
(Гл. 3. С. 79)
Читатель узнает о прогулках Евгения, о его игре на биллиарде, после чего следует авторский монолог о безымянной любви и происходит разоблачение Лилетты, которая оказывается игрой воображения, романной условностью. Наконец, Вельский что-то нашел на своем столе, и глава обрывается:
Бог знает, больше кто устал,
Тот, кто писал, иль кто читал?
(Гл. 3. С. 88)
Вместе с главой оканчивается навсегда и роман, потому что отрывки из четвертой главы (1832) продолжают его как бы за его «концом», не имея с ним решительно никакой связи.
Пересказ содержания «Евгения Вельского» показывает, на каких путях пересекается «высокая» и «низовая» литература.
Характерен выбор объекта для подражания. «Онегин» еще не окончен, еще не прояснилось его будущее значение, но автор «Вельского», выбирая именно «Онегина» из меркантильных или метроманских побуждений, угадывает в нем будущий шедевр и своим нескладным шаблоном уже начинает создавать грядущую славу и авторитетность пушкинского романа.
Автор «Вельского» подметил в поверхностных структурах «Онегина» целый ряд черт жанровой принадлежности. У него есть попытки «болтовни», сопровождаемой плоским остроумием, игры поэтической условностью («вода» -для рифмы, столкновение имени слуги и обозначение жанра, «пустые» места текста). От «Онегина» - лунные строфы, составные рифмы, зеркальные отображения. Он внешне схватил связь двух планов - авторского и геройного, - но не сумел вложить их друг в друга, как это удалось Пушкину. Особенно слабой оказалась лирическая продолженность авторского начала в мир героев. «Евгений Онегин» жанрово основан на лирическом излучении огромной мощности, которое преломляется в эпической плоти событий, персонажей, описаний, никогда не утрачивая качества лиризма. Персонажи и фабула «Онегина» неизменно погружены в соприродное им лирическое пространство, и между планами движутся в обе стороны смыслообразующие потоки.
В «Вельском» этого нет. Лирическое начало в нем ослаблено, и фабула романа лишается не только событийной связности, но и внутренней цельноо-формленности, зависящей от лиризма. Фабула вообще так и не началась. Она просто иссякает, и автору остается выдать свою несостоятельность ее завязать за умышленную пародийность. Даже если бы он имел перед собой завершенного «Онегина», у него, скорее всего, также ничего не получилось бы. Это подтверждает массовая онегинская традиция до конца 1830-х гг. Тонко проведенную Пушкиным вероятностную фабулу «Онегина» с ее перерывами, пустотами, возобновлениями, скрытыми возможностями, альтернативными мотивировками, палиндромными ходами, возвратными переосмыслениями, с ее развязкой, сочетающей бесповоротность и перспективу, - все это не мог построить ни один из эпигонских подражателей и продолжателей.
Такого же происхождения и «обманутое ожидание» читателя. Оно не зависит от предшественников, его умысел объясняется явной неспособностью построить хотя бы видимость фабулы. Трудно назвать фабульным событием претенциозное, немотивированное и скабрезное присутствие героя при переодевании героини. К тому же из него ничего не следует. Так же бессмысленна оказывается встреча персонажей в беседке, возможные следствия ее сводятся на нет трехлетним перерывом фабулы. Фабула, точнее, экспозиция фабулы присутствует лишь в первой главе, когда Вельский покидает Тамбов, да и то все построено на шаблонах.
В результате композиционная структура «Вельского» безнадежно рассыпается, ниоткуда не получая ресурсов для обоснования художественного единства. Фабула составлена из случайных и мелких событий, не устанавливая отношений между персонажами. За освобожденным от фабулы поэтическим пространством не обнаруживается и лирического континуума, из которого могла быть выведена образная пластика, предметно-вещественная «осязаемость» художественного мира. «Евгений Вельский» возводится на путях дотошного фиксирования черт онегинской поэтики, но в дело шли лишь неорганически связанные друг с другом отдельные наблюдения, которые при использовании превращались в механические приемы. Единство текста «Вельского» обеспечивается не собственной органикой, логикой и внутренней связностью, а разрозненными сопоставлениями с онегинской структурой, ориентацией лишь на нее. Итак, вместо внефабульности «Онегина» находим бесфабульность «Вельского», вместо лиризма - плоское остроумие и бойкую говорливость, вместо инфраструктуры - внешнюю связность, возникающую на аналогиях с «Онегиным». Все это подается как сознательно проведенная пародийность.
Мир героев рассыпан, что объясняется рассыпанностью мира автора. Образ читателя не прояснен. Появляющиеся в мире автора персонажи исчезают, оказываясь чисто внешней литературной условностью. Мотив безымянной любви, не подкрепленной внутренней органикой, превращается в затвердевший штамп. Все вторично, все распадается, подобно любым вырожденным жанрам, на изолированные композиционные и идеологические звенья.
Штампы, клише и шаблоны призваны противостоять рассыпчатости своей склонностью к отвердению и неэстетической весомости. Штампов так много, что можно говорить об их парадоксально забегающей вперед инерции. Характерна в этом смысле тема грибоедовской Москвы в «Вельском». Пушкин еще только вводит ее в седьмую главу «Онегина», а в «Вельском» это уже напечатано. Эпигон в ретивости своей вдруг угадывает, что «Горе от ума» станет постоянным спутником романа в стихах, внетекстовым признаком жанра. Или еще: Пушкин исключает из той же седьмой главы «Журнал Онегина» (дневник), а в «Вельском» журнал героя уже есть, он композиционно поставлен вместо «Дня Онегина» в первой главе. Конечно, Пушкин мог воспользоваться уже существующими ходовыми мотивами, как и автор «Вельского», но у Пушкина это немедленно становилось органическим компонентом, обменивающимся смыслом с другими компонентами, а в «Вельском» так и оставалось механическим клише. В эпоху Пушкина, кстати сказать, подобные вещи хорошо понимались. Так, об эпопее Федора Глинки «Карелия» «Московский вестник» написал, что это просто «глыба», так как произведение не имеет органической целости (8)*. Автор «Вельского» и в некоторых иных случаях «предвосхищает» еще не оконченного «Онегина» и в этом смысле выглядит как сухово-кобылинский Тарелкин, идущий впереди прогресса.
Вернемся еще раз к тексту и взглянем на «Журнал сей Вельского Евгения». Это рамочная конструкция, начало романа внутри начала романа, где автор передает слово герою, который берет на себя функции автора:
Начну с минуты я рожденья:
Я рос любимое дитя,
И признаюсь вам не шутя –
Был не ребенок, загляденье!
Лицо - снег чистый белизной,
В щеках румянец молодой,
Улыбка, черненькие бровки,
И локончики на головке
Природой завиты самой...
……………………….
Глаза мои, ей, ей, прелестны!
(Гл. 1. С. 7)
Трудно, конечно, допустить, что все это написано серьезно, но не оставляет мысль, что автор «Вельского» лишь маскируется мнимым пародийным замыслом.
Ученье Евгения проходило по известной схеме:
Пришла чреда образованья:
Мой Бог! Какое наказанье
В цветущих летах молодых
Заняться книгами, наукой –
И, проводя все дни со скукой,
Не знать веселостей прямых?
(Гл. 1. С. 12)
Затем, как водится, герой разворачивался:
Но все уж прежних нет мечтаний,
Погас огонь моих желаний,
Разочарован я душой –
Лишь длинный ряд воспоминаний
Вдали тускнеет предо мной...
(Гл. 1. С. 13)
Откуда взялся «длинный ряд воспоминаний» - совершенно непонятно. Это предел предсказуемости, лишенный всякого смысла. Лексически и ритмически - это очередной окаменевший штамп. Ни своей интонации, ни оригинальности, ни достоверности. О любви далее говорится так:
Пришла пора страстей жестоких...
(Гл. 1. С. 13)
В точности то же самое. Ритмически это калька только что отзвучавшей (и такой же плохой!) строки «Погас огонь моих желаний», где каждое слово обрывисто-монотонно совпадает с ямбической стопой.




 Вельский пишет и о своих поэтических претензиях:
Вельский пишет и о своих поэтических претензиях:
Мне минуло осьмнадцать лет -
И я, младый полупоэт,
В кругу тамбовок чернооких,
Блистал нередко остротой
И - даже иногда чужой...
Но кто ж, любезный мой читатель,
Кто в мире сем не подражатель?
На гениев неурожай,
А все кой-как да пролезают...
(Гл. 1. С. 16)
Есть основание думать, что здесь невольно использован пушкинский способ «взаимозамены» героев и из-за Евгения высовывается его действительный автор. Но если это так, то уж образ автора-повествователя дублируется совершенно бесспорно, и весь «Журнал» оказывается фикцией. Автор делает вид, что его повествование берет в рамку другое, но новое «я» полностью тождественно авторскому. Граница между зонами автора и героя фактически не была проведена. Это выдается отсутствием хотя бы малейшего стилистического сдвига, но, более всего, обращением к «любезному читателю». Герои к читателям обычно не обращаются. Это прерогатива автора. Разумеется, все это можно принять за комикование, хотя проще объяснить такие вещи механическим и поверхностным усвоением чужих структур.
Единственно, в чем автор «Вельского» неподражаем, - это в отменно галантерейном языке, которым написан его роман. В то же время он, конечно, понимал, что «Онегин» тем самым снижается и высмеивается. Можно предположить, что Писарев, гениально переведя роман Пушкина на галантерейно-мещанское изъяснение, где Онегин предстал как «коварный изменщик и жестокий тиран дамских сердец», имел предварительным образцом «Евгения Вельского». С этой стороны, кстати говоря, концепция Писарева вписывается в художественное существование «Онегина» самым необходимым образом. Многие исследователи не без основания полагают, что пределы допустимой интерпретации содержатся в самом произведении. В таком понимании интерпретация Писарева оказывается запредельной и некорректной, а пределы истолкования «Онегина» ограничиваются с двух сторон интерпретациями Белинского и Достоевского. Однако если истолкования Достоевского, Белинского и Писарева выстроить по аналогии к драматическим жанрам, то соответственно их можно обозначить как трагическую, драматическую и комическую концепции пушкинского романа. Комическая бутада Писарева в этом случае будет подобна карнавальному «осмеянию короля», сознательной перелицовке, действительная функция которой заключается в отрицательной отмеченности шедевра.
В подобном понимании «Евгений Вельский» все-таки попадает в позицию пародии в отношении «Евгения Онегина», но пародии, которая лишь подчеркивает ценность шедевра, по типу «Энеиды наизнанку». В прямой же своей жанровой квалификации - это подражание-двойник, имитация с добавлениями опережающих клише.
Из сличения образца и копии можно сделать попытку вывести некоторые закономерности взаимодействия «высокого» слоя в жанровом контексте литературы со стороны поэтики. Высокий образец, в данном случае «Евгений Онегин», представляет полиструктуру (структуру структур), которая удовлетворяет читательским ожиданиям предсказуемого и непредсказуемого одновременно. Фундаментальная структура обеспечивает тексту устойчивую органическую цельнооформленность, а надстроенные над ней - цепочкообраз-ную и подвижную связность. Низовая копия, то есть «Евгений Вельский», которая возникает, ориентируясь только на образец («Онегина»), гораздо более на литературу, чем на окружающую действительность, структурируется по правилу зеркальной симметрии. То, что в образце связано с глубинным постоянством, ожидаемым и узнаваемым в своей основе, в копии попадает на поверхность, превращаясь в окаменевшие сухие штампы, лишенные непредсказуемости. И наоборот, то, что в образце идет от структур, организующих область непредсказуемой свободы смысла, в копии действует там, где предполагалось устойчивое основание, расшатывая и рассыпая его. Иначе говоря, копия скована там, где должна быть подвижна, и рассыпана там, где должна быть органична. Подобные процессы, происходя на уровне эпигонских подражаний, произошли с «Евгением Вельским» и другими ранними спутниками «Евгения Онегина» из слоя массовой литературы.
ПРИМЕЧАНИЯ
(1)* Розанов И.Н. Пушкин в поэзии его современников // Лит. наследство. Т. 16-18. М., 1934. С. 1030.
(2)* Розанов И.Н. Ранние подражания «Евгению Онегину»// Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. Т. 2. М.; Л., 1936. С. 213.
(3)* Турумова К. «Евгений Вельский» и его автор // Вопросы литературы. 1972. № 8. С. 106 - 125.
(4)* Розанов И.Н. Ранние подражания «Евгению Онегину». С. 221.
(5)* Турумова К. Указ. соч. С. 118.
(6)* Московский телеграф. 1828. № 9. С. 125 - 126.
(7)* Евгений Вельский. Роман в стихах. М., 1828. С. I. Далее ссылки на страницы приводятся в тексте с указанием главы.
(8)* Московский вестник. 1830. Ч. 2, № 5. С. 58.
«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» И СТИХОТВОРНАЯ БЕЛЛЕТРИСТИКА
Х ГОДОВ
Историко-литературный процесс можно сравнить с гребнем горного хребта, где за подъемом на вершину неизбежно следует спуск. Горы не существуют без подножий, классика - без беллетристики. После «Евгения Онегина» мы не видим ничего равного ему в жанре романа в стихах, но это не значит, что жанровая традиция полностью перекрыта. Стихотворный роман тут же ушел в массовую литературу, превратился в стихотворную беллетристику. Нисхождение жанра не есть его падение, это путь через стадию убывания, которая впоследствии может смениться становлением. Поэтому настала необходимость обследовать весь обозримый жанровый текст, так как он является неочевидной опорой для продолжающейся художественной жизни пушкинского романа.
В наше время соотношение классики и беллетристики стало предметом пристального историко-теоретического изучения (1)*. Возникает интерес и к традиции романа в стихах (2)*. Однако первая попытка соотнести «Евгения Онегина» с самыми ранними его подражаниями была предпринята 50 лет назад Розановым (3)*. И.Н. Розанов остановился лишь на стихотворных романах, появившихся параллельно с выпуском «Онегина» по главам, то есть до 1833 г. Не придерживаясь исследовательской линии И.Н. Розанова, мы тем не менее продолжим хронологическую последовательность рассматриваемых произведений и в настоящем очерке ограничимся рамками 1833-1840 гг.
Будучи полигенетическим образованием, «Онегин» оказал мощное воздействие на развитие русской прозы. Под его косвенным освещением иначе видятся «Русские ночи» В.Ф. Одоевского, «Философические письма» П.Я. Чаадаева, не говоря уже о «Мертвых душах». Есть возможность прочесть в кругу жанра полупрозу-полустихи - роман А.Ф. Вельтмана «Странник», тем более что в 1840-х гг. появится в том же роде «Двойная жизнь» К.К. Павловой. Что же касается прямого воздействия «Онегина» на жанровую традицию, то здесь мы, оставив в стороне «Сашку» и «Сказку для детей» М.Ю. Лермонтова, которые еще до нас интерпретировались как романы в стихах, и уклонившись от малоисследованного жанрового соприкосновения «стихотворный роман - стихотворная повесть», назовем несколько текстов из нисходящей линии: «Семейство Комариных» Н. Карцова (1834), «Дурацкий колпак» В.С. Филимонова (1838), «Борис Ульин» Андрея Карамзина (1839), анонимная «Полина» (1839), «Евгений и Людмила» Н. Анордиста (1840), «Граф Томский» Н. Колотенко (1840). Мы рассмотрим три романа: «Семейство Комариных», «Полину» и «Графа Томского» (4)*. Они наиболее выдержаны в жанровом шаблоне, характеризуются общностью типа героя и манерой по-пушкински оставлять роман «без конца». Последнее свойство наблюдалось и в романах, написанных до окончания «Онегина», что легко объяснимо, а в наших случаях это мотивируется сложнее.
 Автор «Семейства Комариных» Н. Карцов был сотрудником журнала «Атеней». Роман состоит всего из двух глав, но жанровые черты, унаследованные от «Онегина», успевают в нем проявиться. Он открывается стихотворным посвящением «Жене моей» и прозаическим «Предуведомлением», имеет несколько развернутых подстрочных примечаний. Действие еще не пущено, перед нами экспозиция, внутри которой, подобно шахматным фигурам, расставлены лица. Время почти онегинское - 1813 г. При полной зависимости от пушкинского романа Н. Карцов кое-что пытается сдвинуть и даже противопоставить «Онегину», поступая в духе любого эпигона, безотчетно выполняющего в своем стремлении к оригинальности диалектику историко-литературного процесса - копировать оригинал в пределах своих узких возможностей. Так, еще в «Предуведомлении» вводится тема войны, хотя описывается провинция, весьма далекая от полей сражения:
Автор «Семейства Комариных» Н. Карцов был сотрудником журнала «Атеней». Роман состоит всего из двух глав, но жанровые черты, унаследованные от «Онегина», успевают в нем проявиться. Он открывается стихотворным посвящением «Жене моей» и прозаическим «Предуведомлением», имеет несколько развернутых подстрочных примечаний. Действие еще не пущено, перед нами экспозиция, внутри которой, подобно шахматным фигурам, расставлены лица. Время почти онегинское - 1813 г. При полной зависимости от пушкинского романа Н. Карцов кое-что пытается сдвинуть и даже противопоставить «Онегину», поступая в духе любого эпигона, безотчетно выполняющего в своем стремлении к оригинальности диалектику историко-литературного процесса - копировать оригинал в пределах своих узких возможностей. Так, еще в «Предуведомлении» вводится тема войны, хотя описывается провинция, весьма далекая от полей сражения:
Местом действия моего романа выбрал я Саратовскую губернию. Волга, трудолюбие, награжденные плодородием земли, - все страну эту делает прекрасной. А жителей счастливыми... <...> Все действующие лица и происшествия моего романа - суть вымысел. Теперь издаю я только две первые главы, когда же издам последующие?.. Не знаю... (С. 11)
Уездный предводитель дворянства Пахом Ефимович Комарин едет обозом в Саратов вместе с женой Марией Павловной и дочерью Дашей. Семейство напоминает Лариных не только созвучием: не имея сестры, Даша по описанию ее образования похожа
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09
lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...