
Категории:
ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника
К ТРАДИЦИИ РУССКОГО СТИХОТВОРНОГО РОМАНА
В этом разделе будет намечена магистраль романа в стихах как жанра, проходящая от «Евгения Онегина» через две главные точки: «Свежее преданье» Я.П. Полонского и «Возмездие» А.А. Блока. Разумеется, эту схему легко заполнить, достаточно назвать до Полонского «Евгения Вельского» М. Вознесенского (?), «Сашку» М. Лермонтова, «Двойную жизнь» К. Павловой, «Олимпия Радина» Ап. Григорьева и после него «Поэтессу» К. Фофанова, «Владимира Волгина» Н. Панова и многие другие. То обстоятельство, что здесь названы весьма не равноценные в поэтическом смысле произведения, малоизвестные, а кроме того, привычно относящиеся к жанру поэмы, не должно смущать: история литературы - это не перечисление высочайших вершин, и роман в стихах, в конце концов, - модификация поэмы.
Начнем со «Свежего преданья». Роман Я. Полонского - заметный и характерный результат прямого влияния «Онегина». Не всегда легко установить генеративные и типологические связи между произведениями, но здесь все лежит на поверхности. Незаурядное дарование Полонского уберегло его от последовательного эпигонства: следовать за «Онегиным», ни в чем не противоборствуя ему, - дело вполне безнадежное. Рассмотрим «Свежее преданье» на фоне «Онегина», обратив внимание на некоторые общие жанровые черты, на характер главного героя и образ автора в пределах первой главы. Но сначала несколько слов о романе в целом.
Полонский напечатал «Свежее преданье» в 1861 - 1862 гг. в нескольких номерах журнала братьев Достоевских «Время». Таким образом, оно выходило по частям, как то и подобает стихотворному роману. Редакция «Времени» характеризовала роман как «одно из замечательнейших произведений нашей текущей литературы» (1)*. Это, по-видимому, не было простой рекламой, так как сам Достоевский в письме к Полонскому от 31 июля 1861 г. сообщал ему о «сильном разнообразном впечатлении» от романа, о «восторгах» Некрасова, о том, что Страхов «заучил три <...> главы наизусть» (2)* и т. п.
Однако впоследствии все это оказалось преувеличением, о котором дала понять критика из лагеря «Искры» и даже старый знакомый Аполлон Григорьев (3)*. В конце концов Полонскому стало ясно, что его роман теряет актуальность в бурную эпоху шестидесятых годов. Он его обрывает и в более позднем прозаическом прибавлении (1869) досказывает прозой фабулу романа с седьмой по двадцатую главу (4)*. Сейчас «Свежее преданье» основательно забыто. Предпоследний раз оно было напечатано 45 лет назад в «Библиотеке поэта». Роман иногда упоминается в общих обзорах, специальные работы нам неизвестны.
События, описанные в «Свежем преданье», относятся к 1840-м гг., то есть несколько отодвинуты от момента создания романа. В ее центре находится историко-культурный тип, известный до недавнего времени под названием 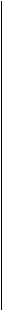

 «лишнего человека». Петр Ильич Камков, поэт и философ, - личность духовно одаренная, возвышенная, но при этом ущербная, социально не прикрепленная. Это не знатный, но образованный дворянский интеллигент с чувством отторженности от мира и самопогруженности, иначе говоря, то, что в расширенном смысле можно назвать онегинско-чаадаевским типом. Впрочем, Камков больше напоминает Рудина, чем Онегина, что подтверждается самим автором:
«лишнего человека». Петр Ильич Камков, поэт и философ, - личность духовно одаренная, возвышенная, но при этом ущербная, социально не прикрепленная. Это не знатный, но образованный дворянский интеллигент с чувством отторженности от мира и самопогруженности, иначе говоря, то, что в расширенном смысле можно назвать онегинско-чаадаевским типом. Впрочем, Камков больше напоминает Рудина, чем Онегина, что подтверждается самим автором:
Увы! - Как Рудину - тогда
Ему была одна дорога:
В дом богадельни иль острога.
(С. 392)
Однако Полонский тут же и отграничивает своего героя от тургеневского, тем более что у Камкова был реальный прототип - поэт Иван Петрович Клюшников:
Но между Рудиным и ним,
Как поглядим да посравним,
Была значительная разность.
Характеров разнообразность
Разнообразит вечный тип.
(С. 392)
В то же время за Камковым-Клюшниковым по ряду совпадающих черт как-то невольно видится Чаадаев, умерший незадолго до написания романа. Видится, несмотря на то что в тексте косвенно назван год рождения Камкова - он сверстник Белинского, - несмотря на то что миросозерцание реального лица подчас диаметрально противоположно взглядам литературного персонажа (так, например, Чаадаев считал, что «Россия шествует только в направлении собственного порабощения» (5)*, а Камков верил, что «придет время, и оно близко, когда крепостное право рухнет» (с. 481). Право на такое видение мы получаем потому, что многие произведения минувших эпох прочитываются на фоне позднейших поэтических структур. При всех требованиях историзма нам никогда не отрешиться от личного опыта. Так, читая в первом вступлении к «Поэме без героя» о поэте Всеволоде Князеве, мы подверстываем к нему облик и судьбу Осипа Мандельштама. Почему же теперь в «Свежем преданье» не увидеть за Камковым - Клюшникова, а за Клюшниковым - Чаадаева? Нечто подобное, взаимозамещение и «склеивание» персонажей, есть и в «Онегине»: за Евгением чувствуется сам автор (Пушкин) в восьмой главе, а во второй главе Евгений в спорах с Ленским напоминает молодого Чаадаева, причем Пушкин оказывается уже в роли Ленского. Конечно, «Свежее преданье», взятое вне жанрового контекста, семантически мелеет, но, прочитанное на фоне других романов в стихах, несколько смещает тип своей внутренней организации, приобретая большую глубину и сложность.
В ходе событий Петр Камков влюбляется в свою ученицу, юную княжну Ларису Таптыгину, отвергая в то же время притязания некой баронессы (персонажа без имени), женщины «бальзаковского» возраста, избалованной светской красавицы, далеко не глупой, но эгоистичной и тщеславной. Бальзака вспоминает сам Полонский, называя его «отцом тридцатилетних дам» (с. 418). Линия Камкова и баронессы представляется также вполне автобиографической, так как Полонский весьма страдал от внимания высокопоставленных дам в бытность за границей гувернером у Смирновых.
Любовь не удалась Камкову Из прозаической части мы узнаем, что Лариса сказала ему: «Вы не мой герой. Тот, кого я полюблю, должен походить на тот идеал мужчины и гражданина, который вы не раз рисовали передо мной, читая мне историю или толкуя великих поэтов» (с. 477). Так, Камков, воспитав Ларису в духе романтического отождествления поэзии и жизни, одновременно воздвиг преграду между нею и собой. В конце он умирает от чахотки, смиряясь со своей участью, ибо, несмотря на духовный и нравственный максимализм, а точнее, благодаря ему, он не смог утвердить себя во внешнем мире. В судьбе Камкова отчасти виден тип грибоедовского или тургеневского конфликта, когда женщина оказывается сильнее мужчины.
Однако, как и в «Онегине», в «Свежем преданье» мы наблюдаем интеллектуальный вариант одного из самых основных русских национальных типов, который, ощутив в себе личностное начало, «выталкивается» из социальной среды или сам «отпадает» от нее. То, что в глубинных пластах народной жизни проявляется как отшельничество, странничество, на уровне поэтического сознания Аполлона Григорьева будет названо «Моими литературными и нравственными скитальчествами». Онегину очень и очень свойственна «охота к перемене мест». Но он передвигается не только в пространстве, столь же подвижен он и во внутренней своей структуре. Изнеженный юноша, «подобный ветреной Венере» в мужском наряде, модник на западный манер, Онегин трансформирован в иной модус в сне Татьяны, где он предстает русским удальцом, главой шайки чудовищ, который «из-за стола гремя встает». Татьяна во сне прозревает глубинную национальную основу Онегина, и не случайно в конце романа ему, как и ей, ведомы:
...тайные преданья
Сердечной, темной старины,
Ни с чем не связанные сны,
Угрозы, толки, предсказанья...
(VI, 183)
С социальным «отпадением» связана также тема «ухода» в русской литературе. Уйти в скит, в революцию или в запой - лишь бы освободиться от невыносимой прикрепленности. Та же альтернатива предлагается и Камкову:
...иной
Идет на гибель как герой,
Иной... напротив, на покой
Отправится в уединенье
И сложит руки...
(С. 392)
Это напоминает нам контрастные возможности Ленского, которые у Кам-кова также не реализуются из-за его преждевременной смерти. Как и Ленский, Камков
...был добр и тонок;
Но - был невзрослый человек...
(С. 393)
Нет, не случайно Ап. Григорьев не увидел в Камкове «кряжевой натуры», которую находил в Онегине и Печорине. Однако к кому ближе Камков - к Онегину или к Ленскому, это, в конце концов, не самое главное. Важнее всего, что перед нами еще одна модификация типа русского интеллигента XIX в. с его «пламенной беспочвенностью». Те же черты мы легко заметим и в образе автора у Полонского.
«Свежее преданье» с «Онегиным» роднит еще одна черта, которую можно считать своего рода жанровым признаком: тяготение к «Горю от ума». У Полонского эта ориентация начинается с заглавия, с описания светского поведения и патриархальных сторон московского общества, с характера главного героя и его любовной неудачи и кончается многочисленными явными и неявными реминисценциями: «Как поглядим да посравним» (с. 392), «Когда я прилетал в Москву Как юноша, когда-то праздный Любил я старую молву Ловить за хвост немного грязный» (с. 379), - или афоризмами:
Ума прибавится на грош,
А сердца на алтын убудет.
(С. 380)
Соприкосновения «Онегина» и «Горя от ума» нет нужды напоминать.
Вслед за пушкинским романом «Свежее преданье» имитирует размытость границы между романом и жизнью. Здесь у Полонского есть собственный источник - мемуарная основа романа. Как знакомые Камкова только в первой главе упоминаются Белинский, Станкевич, Самарин. В других главах возникают еще Аксаков и Тургенев, а баронессу посетил однажды
...гордый Лист,
Известный всем фортепьянист.
(С. 395)
В роман включаются также вопросы искусства, литературно-критическая полемика Полонского с шестидесятниками - все по онегинским образцам, - есть даже несколько пейзажей типа «Иные нужны мне картины». «Свежее преданье» написано нерегулированной строфой, но по всему роману проходят интонационные и образно-тематические переклички с «Онегиным». Вот несколько примеров, взятых только из первой главы:
О муже темные преданья
Она могла бы пояснить...
(С. 381)
...Друзья,
Пиши я в прозе, верно б я
Вам описал его каморку,
Стол, кресло, книги под столом
И на столе...
(С. 390)
Камков действительно был гений,
Хоть он заметного следа
Среди общественных явлений
И не оставил, господа.
(С. 392)
Аналогии со структурой «Онегина» видны в «пропусках текста», эпизодических примечаниях, правда, данных под строкой, прозаических прибавлениях, композиционно завершающих роман Полонского, и во многом другом.
Однако, кроме естественных признаков жанрового сходства, поскольку перед нами два романа в стихах, между «Онегиным» и «Свежим преданьем» есть разница - и значительная.
Разница прежде всего наблюдается в структуре образа автора, в определенной неразвитости авторского плана «Свежего преданья» сравнительно с фабульным, отчего вся постройка романа наклоняется в эпическую сторону. Напомним бегло структурные черты авторского образа в «Онегине».
Авторская сфера в «Онегине» развита в самостоятельный мир, едва ли не более значимый, чем мир героев, и структура образа автора не однородна. В нем сразу пересекаются несколько планов, которые в читательском восприятии сливаются, но аналитически могут быть изолированы его чужеродные составляющие. Из них наиболее отчетливо выделяются два: автор предстает перед нами, с одной стороны, как поэт-творец, с другой - как персонаж собственного романа, и оба эти облика создают, как писал В.М. Маркович, «живое единство двух нераздельных величин, разность которых непрестанно возобновляется и непрестанно снимается их бесконечными взаимопереходами» (6)*.
Функция этих переходов заключается прежде всего во взаимопроникновении плана автора и плана героев, что, кстати говоря, ведет к многочисленным взаимозаменам между персонажами и к возникновению креолизированных образов, а в конечном счете, к созданию некоего общего духовного основания для всех героев (7)*, к их духовной открытости. Роман показывает, что «телесно любой человек есть единство, душевно - никогда» (8)*. В изображении персонажей Пушкин далеко уходит от эмпирической поверхности, и если на одном уровне герои обречены на одиночество, то на другом - прочно соединены (9)*. Они приравниваются друг к другу, к ритму природной жизни, и в результате «Онегин» становится не антропоцентричен, но космоцентричен.
У Полонского, на первый взгляд, та же самая структура образа автора, но более пристальное наблюдение усматривает разницу. Автор заявляет о себе прежде всего как повествователь, хроникер:
Таптыгина не знал я лично:
Но, как его историк, я...
(С. 379)
Однако далее автор выбирает позицию очевидца и даже как будто собирается стать активным участником событий. Его самого влечет к Ларисе Таптыгиной, и он мечтает о ней в манере Ленского:
То были дни моей весны,
И было у меня пророком
Мечтательное сердце; в сны
Его я верил; из княжны
Я создал по одним намекам
Тот чистый, грустный идеал,
Который спать мне не давал.
Тогда благоразумья оком
Еще глядеть я не умел.
(С. 382)
Еще позже автор окончательно определяет свою роль как знакомый Камко-ва, которого он слушает как Ленский Онегина или как молодой Пушкин Чаадаева:
Я только помню - как, живой
Своею речью, молодой
Моей души святой покой
Он нарушал без сожаленья, -
Он не смеялся надо мной,
Не нападал, но понемногу
Одолевал...
(С. 391 - 392)
Как в первой главе, так затем и во всем романе образ автора у Полонского колеблется лишь в диапазоне «повествователь» - «персонаж», не попадая в главную оппозицию пушкинского образа «творец романа» - «персонаж того же романа». Что касается модификации образа автора как творца «Свежего преданья», то она в принципе не восходит до структурообразующей функции, возникая спорадически и не конструируя «расщепленной двойной действительности», как назвал мир «Евгения Онегина» А.В. Чичерин (10)*. У Полонского встречаются места, очень напоминающие пушкинские, например:
...Пущу вперед,
Сиятельных не беспокоя,
Камкова, моего героя.
Друзья! Как друга моего,
Рекомендую вам его.
(С. 391)
Читатель! Если ты желал
В начале моего творенья
Найти ошибку, упущенье
Иль вялый стих... - и не зевал
Над этой первою главою, -
Ты ничего не потерял...
(С. 394)
Все это не что иное, как имитация, эпигонство. В «Свежем преданье» отсутствует метаповествование, то есть поэтические рефлексии автора по поводу создаваемого им романа. Не возникает игры между авторским словом и «чужим» словом, взаимоотсвечивания различных уровней повествования и стиля, короче, всего того, что придает «Евгению Онегину» то неизъяснимое свойство, которое еще Н. Полевой пытался выразить как capriccio. Поэтому авторский план Полонского структурно, а следовательно, и содержательно слабо развит. Автору, поставившему себя в позицию Ленского, нелегко изобразить себя свободным и властным демиургом, парящим над своим творением.
В итоге получается, что в звене «Евгений Онегин» - «Свежее преданье» прямая традиция жанра стихотворного романа выглядит не очень продуктивной. Ю.М. Лотман даже считает, что вообще «онегинская традиция
неизменно сопровождалась трансформацией образов, имеющей характер упрощения структурной природы текста и введения ее в рамки тех или иных
традиций (включая сюда и традицию, созданную самим пушкинским романом...)» (11)*.
***


 Зависимость «Возмездия» А. Блока от «Евгения Онегина» вне всяких сомнений. Однако мы здесь попробуем увидеть эту зависимость преломившейся в творчестве Я. Полонского, поскольку связь Блока и Полонского просто лежит на поверхности, хотя до сих пор и недостаточно исследована, особенно в лироэпике. Мы сопоставим «Свежее преданье» с «Возмездием» по некоторым чертам творческой истории, по характеру фабулы, типу главного героя, общему литературному фону и пр. Все это должно опираться на структурные черты «Онегина», вполне сходные или видоизмененные, в силу чего жанр «Возмездия» также принимается за роман в стихах (12)*.
Зависимость «Возмездия» А. Блока от «Евгения Онегина» вне всяких сомнений. Однако мы здесь попробуем увидеть эту зависимость преломившейся в творчестве Я. Полонского, поскольку связь Блока и Полонского просто лежит на поверхности, хотя до сих пор и недостаточно исследована, особенно в лироэпике. Мы сопоставим «Свежее преданье» с «Возмездием» по некоторым чертам творческой истории, по характеру фабулы, типу главного героя, общему литературному фону и пр. Все это должно опираться на структурные черты «Онегина», вполне сходные или видоизмененные, в силу чего жанр «Возмездия» также принимается за роман в стихах (12)*.
Блок, несомненно, читал «Свежее преданье», хотя прямых свидетельств этого пока установить не удалось. Во всяком случае, в записях Блока упоминаются тома 1 - 3 из пятитомника Полонского, а как раз в третьем томе и находится «Свежее преданье». Возможно, Блоку была знакома и журнальная, более полная, версия романа.
Как «Возмездие», так и «Свежее преданье» создавались в периоды резких социальных сдвигов, что в несколько ином смысле можно сказать и об «Онегине». Время быстро убегало вперед, и оба романа отставали. Как мы уже заметили, Полонский оборвал стихотворное повествование, досказав фабулу сжатой прозой. Нечто подобное пришлось сделать и Блоку. Начав «Возмездие» в 1910 г., он в 1919-м пишет большое предисловие к поэме, в котором, «не чувствуя ни нужды, ни охоты заканчивать поэму, полную революционных предчувствий, в года, когда революция уже произошла» (13)*, кратко пересказывает фабулу трех ее глав и эпилога, останавливаясь преимущественно на философской концепции произведения. Таким образом, сходный способ окончания двух стихотворных повествований свидетельствует, во-первых, что они оба запоздали в соревновании с «громадно-несущейся жизнью» и что они, во-вторых, претендовали на контакт с незавершенной современностью, в связи с чем можно говорить о жанровой интенции романа в стихах.
«Свежее преданье» и «Возмездие» могут быть сближены тематически. Возникая на семейно-бытовой, мемуарной основе, они затем развертываются в художественном плане, вбирают в себя ряд социально-исторических идей и явлений. «Возмездие», однако, объемнее, «каждая глава, - пишет Блок в «Предисловии», - обрамлена описанием событий мирового значения; они составляют ее фон» (с. 298). Захват «Свежего преданья» несравнимо уже, о чем писал еще Аполлон Григорьев. При всем том оба произведения объединяются способом построения фабулы, слабо развитой, фрагментарной, а то и вовсе оборванной. То же и в «Онегине».
Тип главного героя романа в стихах в своей основе также остается неизменным у Пушкина, Полонского и Блока. Это онегинско-чаадаевский тип, социально не прикрепленная, «центробежная фигура». В обоих произведениях чрезвычайно важна тема исторического возмездия (у Блока, разумеется, она гораздо ярче), но у Полонского истоки возмездия лежат в духовно-нравственном воспитании, а у Блока оно идет через «коротенький обрывок рода» темным органическим путем.
В связи с этим укажем еще на одно отличие «Свежего преданья» от «Возмездия». Действие романа «Возмездие» уходит от современности на сорок, примерно, лет назад и лишь оттуда возвращается к настоящему. «Восьмидесятые годы, - писал О. Мандельштам, - колыбель Блока, и недаром в конце пути, уже зрелым поэтом в поэме "Возмездие" он вернулся к своим жизненным истокам - к восьмидесятым годам» (14)*. Полонский также возвращается, но не слишком далеко, к сороковым годам XIX в., к своим духовным истокам, и, вернувшись, оставляет там действие самого романа. Для жанра романа в стихах такие ретроспективы, скорее всего, не слишком благоприятны: жанр живет контактом с незавершенной современностью. Временной диапазон «Возмездия» более характерен для поэмы, но сам Блок, несомненно, ощущал в ней романное начало, так как говорил о «Возмездии» как о «моих "Rougon – Macquar’ах" в малом масштабе» (с. 298).
Герой «Возмездия» - «отец», художественно и философски одаренный профессор права, подобно Камкову, «списан с натуры» - это Александр Львович Блок. Но в данном случае гораздо важнее их общая литературная родословная: они прямые потомки Онегина. В то же время от Онегина они расходятся в разные стороны: Камков, при всем его духовном и нравственном максимализме, пассивен и покорен судьбе, «отец» же не случайно «похож на Байрона», он еще и демон, и хищник, но его порывы тонут в собственном эгоцентризме. Оба по-разному несчастны в любви: Камков не получил желаемого ответа на свое чувство, «отец» не мог удержать своего счастья. Все это, безусловно, онегинские варианты. Пушкинский герой может лишь утешаться знанием о взаимном чувстве Татьяны, между ним и нею непроходимая стена долга и самоотречения. Гибель героев Полонского и Блока совершенно однотипна, только Камков погибает с меньшей остротой и неприкаянностью. Непреодолимая тяга оборвать корни губит обоих, и это вполне может быть выражено формулой Блока из черновиков третьей главы «Возмездия»: «...человек, опускающий руки и опускающийся, прав. Нечего спорить против этого. Все так ужасно, что личная гибель, зарывание своей души в землю - есть право каждого» (с. 465).
Мы уже говорили о грибоедовском фоне для «Онегина» и «Свежего преданья». С еще большим правом это можно сказать о «Возмездии». Интерес Блока к Грибоедову не нуждается в пояснениях. В «Возмездии» множество реминисценций из «Горя от ума». Например: «А в глубине души все та ж Княгиня Марья Алексеевна», «Шалят; Они не моего романа», «Тот странен и с людьми несхож». Стихи из первой главы «То ум холодный, ум жестокий Вступил в нежданные права» проясняются как «грибоедовские» в третьей: «И в снах холодных и жестоких Он видит «Горе от ума»». Последние стихи перерастают в так называемой второй редакции «Возмездия» в своеобразную поэтическую интерпретацию комедии, позже отброшенную:
Кто 6 ни был ты, - среди обедов,
Или, храня служебный пыл,
Ты, может быть, совсем забыл,
Что был чиновник Грибоедов,
Что службы долг не помешал
Ему увидеть в сне тревожном
Бред Чацкого о невозможном
И Фамусова шумный бал...
(С. 442)
Так «Горе от ума» своей «неразгаданностью» и «трагическими прозрениями» (Блок) осложняет образ «отца», смешиваясь с холодностью лермонтовско-врубельского демона. Так грибоедовская комедия дает боковое освещение целой ветви романа в стихах от Пушкина к Полонскому и Блоку. Интересно заметить, что заглавия у Полонского и Блока ориентированы на произведения близких по времени предшественников: «Горе от ума» и «Строитель Сольнес» Ибсена.
Как в «Онегине», как в «Свежем преданье», так и в «Возмездии» наблюдается размытость границы между поэзией и реальностью. Блок упоминает множество исторических и реальных лиц: Софья Перовская, неназванный Степняк-Кравчинский («гость новый»), дед поэта Бекетов, Щедрин, Достоевский, Победоносцев и многие другие. На мгновение в «Возмездии» появляется и автор «Свежего преданья»:
С простертой дланью вдохновенно
Полонский здесь читал стихи.
(С. 320)
В памяти Блока, видимо, сохранился чей-то рассказ о поэтических чтениях последней четверти XIX в., так как в статье «Вечера искусств» (1908) тот же штрих воспроизведен в прозе: Полонский читает стихи «с торжественно протянутой и романтически дрожащей рукой в грязной белой перчатке» (15)*. Любопытна сама трансформация образа из прозаического в стихотворный с отсечением снижающих деталей, сгущением и стилистическим возвышением.
Появление Полонского в «Возмездии» интересно еще с одной стороны. Само звучание фамилии и в особенности жест его «простертой длани» неожиданно смыкаются с польской темой «Возмездия», так как ассоциативно притягивают из «Предисловия» «Костюшку с протянутой к небесам десницей» (с. 299). Если прибавить сюда стих Пролога «Угль превращается в алмаз», являющийся реминисценцией из Циприана Норвида «А вдруг из пепла нам блеснет алмаз» (наблюдение 3.Г. Минц), и еще некоторые стихи, то можно обнаружить лейтмотив мазурки, ведущей тему Возмездия. Мазурка, кстати говоря, хоть и не столь значимо, но звучит и в «Онегине», и в «Свежем преданье».
В заключение вернемся еще раз к поэтике завершения стихотворного романа. Уже достаточно много писалось о завершенности «Онегина» в форме неоконченности. Отмечена также роль прозаических фрагментов при окончании пушкинского романа («Примечания», «Отрывки из путешествия Онегина»). Нечто подобное видим и при окончании «Свежего преданья», которое, вопреки сложившемуся мнению, вполне можно считать завершенным произведением. Изложив конспективной прозой целых четырнадцать глав стихотворного романа на нескольких страницах, Полонский как бы угадал, что стихотворный роман строится мимо фабульной занимательности. Интенсивный прозаический текст выступил в функции графического эквивалента экстенсивного стихотворного текста и тем самым спас роман Полонского именно как стихотворный. В противном случае стихи имели бы вид вялой прозы, как то случилось с романом в стихах Н. Панова «Владимир Волгин» (1900).
Однако случай с «Возмездием» гораздо сложнее. О какой-либо оконченности в форме неоконченности здесь не может быть речи. Роман действительно оставлен Блоком на полпути. Отсутствует почти вся вторая глава и окончание третьей, совсем нет эпилога. И все же можно в какой-то мере, пусть приблизительно, представить «Возмездие» полностью. Это вовсе не значит, что роман можно и тем более нужно реконструировать. Просто Блок отчасти компенсировал недостающий стиховой текст в прозаическом пересказе «Предисловия». К тому же можно, если на этот раз в порядке исключения нарушить обычные правила установления и прочтения канонического текста, читать подряд беловые и черновые куски второй и третьей глав, как это напечатано в пятом томе двенадцатитомного издания Блока (1933). Это исключение из правил может быть даже семантически оправданно. Глубоко прочитывается, например, прозаическая концовка второй главы, когда герой верхом на лошади, «пропадая на целые дни - до заката, <...> очерчивает все большие и большие круги вокруг родной усадьбы» (с. 470). Так или иначе, объяснив причины незаконченности поэмы и пересказав ее, Блок тем самым все-таки закончил «Возмездие», и большие фрагменты текста как бы перестраиваются из линейного порядка в круговой, располагаясь вокруг эпицентра, созданного «Предисловием». Оно надстраивает над текстом поэмы или романа в стихах структурный план метаповествования, выполняя роль авторского плана в «Онегине» и обеспечивая целостность произведения.
Таким образом, жанровые формы романа в стихах от Пушкина до Блока варьируют различные способы открытой структуры, где внешняя незавершенность обязательна. Это черта жанра. Вместе с тем обрывающийся  текст «Свежего преданья», несмотря на игру с «пропущенным» текстом, представляет собою постепенно развертывающуюся, непрерывную ленту. В «Возмездии» по-другому. Если согласиться, что в сознании художника произведение существует до его реализации в тексте в виде некой идеальной целостности, «построено в голове», то «Возмездие» видится не столько недостроенным текстом, сколько взорванным внутренним единством, которое структурно-семантически и оформлено в облике взрыва, с разлетающимися от эпицентра «Предисловия» во все стороны фрагментами белового и чернового текста. В век научно-технических, информационных, демографических и прочих «взрывов» блоковское «Возмездие» выступает как их предзнание и отображение. «В эпохи бурь и тревог» Блок писал не только «о постройке большой поэмы», но и о «мировом пожаре», о «крушениях», как он надеялся, благотворных.
текст «Свежего преданья», несмотря на игру с «пропущенным» текстом, представляет собою постепенно развертывающуюся, непрерывную ленту. В «Возмездии» по-другому. Если согласиться, что в сознании художника произведение существует до его реализации в тексте в виде некой идеальной целостности, «построено в голове», то «Возмездие» видится не столько недостроенным текстом, сколько взорванным внутренним единством, которое структурно-семантически и оформлено в облике взрыва, с разлетающимися от эпицентра «Предисловия» во все стороны фрагментами белового и чернового текста. В век научно-технических, информационных, демографических и прочих «взрывов» блоковское «Возмездие» выступает как их предзнание и отображение. «В эпохи бурь и тревог» Блок писал не только «о постройке большой поэмы», но и о «мировом пожаре», о «крушениях», как он надеялся, благотворных.
В результате, бегло взглянув на схему развертывания жанровых потенций русского стихотворного романа после «Евгения Онегина», мы можем предварительно утверждать следующее. «Евгений Онегин» сразу достиг высшей ступени жанра романа в стихах благодаря удачному стечению в одной точке многих генетических линий, большею частью чужеродных. Соответственно этому, и воздействие самого «Онегина» пошло, главным образом, на стимулирование различного рода боковых жанров. Но и прямая преемственность романа в стихах не оказалась закрытой. Она проходила не по линии восходящей эволюции, сначала дала ряд эпигонских подражаний, из которых буквально единицам удалось выделиться из потока («Свежее преданье» Полонского), и даже повлиять на более далекие образцы, авторы которых пытались вступить в соревнование с «Онегиным» («Возмездие» Блока). Дальнейшее развитие жанра происходит на путях отталкивания от «Онегина» при сохранении отдаленной связи с ним и деформированных, а частично и перегруппированных его жанровых признаков («Пушторг» Сельвинского, «Спекторский» Пастернака, «Поэма без героя» Ахматовой, «Василий Теркин» Твардовского и др.).
ПРИМЕЧАНИЯ
(1)* Цит. по: Полонский Я.П. Стихотворения и поэмы. М., 1935. С. 761, примеч.
(2)* Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 28, кн. 2. Л., 1985. С. 19, 20.
(3)* См. Полонский Я.П. Указ. соч. С. 760 - 761.
(4)* Там же. С. 481. В дальнейшем страницы этого издания будут указываться в тексте.
(5)* Чаадаев П.Я. Неопубликованная статья // Звенья. 3-4. М.; Л., 1934. С. 380.
(6)* Маркович В. Развитие реализма в русской литературе // Вопросы литературы. 1976. № 3. С. 93. Подобное понимание диалектики авторского образа, как нам представляется, более отвечает структуре «Онегина», чем его истолкование как «художественного сосуществования двух «Я»» (см.: Тархов А. Судьба Евгения Онегина // А.С. Пушкин. Евгений Онегин. М., 1978. С. 10), как «различения Пушкина и Автора» (Там же. С. 11).
(7)* «О профильности героев "Онегина"» см.: Лотман Ю.М. Роман в стихах Пушкина «Евгений Онегин». Тарту, 1975. С. 77 - 78.
(8)* Гессе Г. Степной волк. Новосибирск, 1990. С. 140.
 (9)* См. также об этом в главе «Поэтическое и универсальное в "Евгении Онегине"».
(9)* См. также об этом в главе «Поэтическое и универсальное в "Евгении Онегине"».
(10)* Чичерин А.В. Идеи и стиль. 2-е изд., доп. М., 1968. С. 123.
(11)* Лотман Ю.М. Указ. соч. С. 101 - 102.
(12)* «Романом в стихах» называет «Возмездие» В.М. Жирмунский. См.: Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л., 1977. С. 244.
(13)* Блок А. Собр. соч.: В 8 т. Т. 3. М.; Л., 1960. С. 295. В дальнейшем при цитации «Возмездия» страницы указаны в тексте.
(14)* Мандельштам О. О поэзии. Л., 1928. С. 57.
(15)* Блок А. Собр. соч. Т. 5. С. 307.
«МЛАДЕНЧЕСТВО» ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВА
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09
lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...